| Главная | О нас | Детям | Родителям | Учителям |

|
Контакты |

Вы имеете полное право спросить: как телевизор может быть удивительным? Чем он может удивить кроме того, на что способен технически и чему уже никто не удивляется? Да, оказывается, может – и телезрителей удивлять сверх меры, и сам удивляться. А произошло вот что. Шестилетнему мальчику Митеньке купили телевизор и поставили в его комнату. Митенька был очень доволен, а больше всего родители. Теперь папа с мамой могли смотреть одни программы по старому телевизору, а мальчик – другие, и не мешать друг другу. Родители и предположить не могли, что купленный ими телевизор заставит удивляться всю семью.
Новенький телевизор был изготовлен фирмой «Aiwa», и таких телевизоров – тысячи и тысячи. Таких? Таких, но не совсем, и вот почему… Поверите вы или нет, но случилось так, что пришлось этому телевизору простоять целую ночь на заводском конвейере, дожидаясь, пока его уложат в коробку. «И что же здесь особенного?» – спросите вы. Да ничего, не считая одного: мастер-сборщик увлекался познавательными журналами и книгами, перечитал их множество, а читать не надоедало, и чем больше узнавал нового, тем интереснее ему было жить на свете. Тогда он как раз читал «Энциклопедию мудрости веков» – и на работе тоже, когда выпадало свободное время.
В тот вечер, перед самым уходом домой, он нечаянно положил «Энциклопедию…» на телевизор сверху, чтобы взять с собой, а сам отошёл, да и забыл. Так книга и пролежала на телевизоре до самого утра. Телевизор был умненьким (самая новейшая модель!) и пока не загруженный никакой информацией. Вот и стал читать книгу – ого, как интересно!
Прочитал до половины и крепко задумался: «Если у людей есть книги, зачем им нужны телевизоры?» Дочитал книгу до конца как раз к рассвету; утром его упаковали и увезли на склад, потом, в магазин, а там…
Митя сразу же привык к новому телевизору, стал называл его Айвашкой; научился включать телевизор, нажимать на нужные кнопки, находить интересующие программы. Он брал в руки послушный пульт управления, садился в удобное кресло напротив и говорил:
– Ну-ка, Айвашка, покажи мне «мультяшки»!
Сначала мальчик смотрел мультфильмы, сказки, детское кино, а потом, пользуясь тем, что взрослые были заняты своими делами, переходил на такие программы, которые и взрослым-то смотреть можно только с закрытыми глазами: противно и страшно. Митенька так и делал: зажмуривал глаза и смотрел сквозь узенькие щёлочки – закончилось или нет? А когда уж слишком долго всё это показывали, выбегал из комнаты и прикрывал за собой дверь, изредка посматривал из-за неё, дожидаясь, когда прекратятся ужасающие сцены. Затем возвращался в комнату и снова подсаживался к телевизору. Родители привыкли не обращать на это внимания, списывая на «чудачества» сына, но вряд ли догадывались о том, что сами-то смотрели то же, что и он.
Наверное, ещё долго продолжалась бы такая чехарда, если бы… в комнате у Митеньки оказался другой телевизор. Но Айвашка, выдавая стандартные программы и наблюдая за реакцией ребёнка, догадался, что к чему, и удивился: «Как же так? Если детей воспитывать этаким образом и утверждать такой порядок вещей, то чего же можно ожидать от них в будущем?» Что до других детей, Айвашка не знал, но принял твёрдое решение: демонстрировать это безобразие Митеньке нельзя! Но что прикажете делать, когда антенны ничего другого не «ловят»?
– Для начала не худо бы узнать, что там другие телевизоры показывают! – подумал Айвашка. Он дождался, когда все разошлись, и заглянул в большую комнату, к Митиным родителям. Включил старый телевизор, «пробежался» по всем программам и тут же выключил.
– Так я и знал… – вздохнул он, но решил не отчаиваться заранее, а сходить… в соседнюю квартиру: что у них? У соседей оказалось и того хуже, то есть ещё более мерзко. Их недавно подключили к Евро-антенне, и Европа не стеснялась, предлагая вольные программы наперебой.
Айвашка никому не стал задавать глупых вопросов, а решил поговорить с самым главным, на его взгляд, виновником «перекосов», Директором телевизионного вещания, заседающим в Главном телецентре. Сначала связался по телефону – сказали, что предварительно нужно записаться на приём. Он записался и явился ровно через неделю в назначенный час. Невозмутимый директор не удивился необычному визитёру. Выслушал его историю, возмущения и претензии, а потом сказал:
– Раз такой умный, почему не понимаешь сам? Мы – исполнители, транслируем только те программы и передачи, за которые заплачено. За «гуманное» вещание не заплатил никто.
– И где же выход? – растерялся Айвашка.
– Где? Ты – начитанный и умный, как я понял из твоего досье. Придумай что-нибудь сам. Сообрази, а мы у тебя поучимся!
Айвашка отправился восвояси, а по дороге решился на поступок…
В этот вечер Митенька, как всегда, включил телевизор и принялся шаловливо переключать программы: одна, другая, третья – вот вроде бы что-то новенькое, чего раньше не показывали! Но какое-то оно… Это было нечто совершенно непонятное из взрослой жизни, что-то скандальное и отвратительное. В этот момент телевизор словно вздрогнул, экран внезапно погас, и… На тёмном фоне показалась фигура молодого человека, приятного, черноволосого, одетого в строгий светлый костюм. Его глаза смотрели прямо в глаза мальчику.
– Здравствуй, Митя, – произнёс молодой человек. – Ты не бойся меня. А лучше давай познакомимся.
Сначала Митеньке показалось, что он попал на какую-то новую программу. Он стал ждать, что скажут дальше.
– Митя, послушай меня, – продолжал необычный диктор. – Обращаюсь именно к тебе. Ты можешь отвечать мне, я услышу. Не стесняйся, пожалуйста.
– Как это может быть? – тихонько спросил Митя сам себя.
– Вполне может быть, уверяю тебя. Я – твой телевизионный друг, зовут меня Айвашка – это коротко, а полное имя – Айван Айванович, почти Иван Иванович. Для простоты можешь называть меня Иваном Ивановичем.
Митя не знал, что делать: ещё раз переключить программы, позвать родителей или просто выключить телевизор. Но Айван Айванович, то есть Иван Иванович мягко остановил его:
– Выслушай меня, пожалуйста. Я давно собирался поговорить с тобой, но ждал случая. Ты не смотри, что я взросло выгляжу; я молод, очень хорошо понимаю тебя, разделяю твои увлечения, знаю, что нужно тебе в твоём возрасте.
– А почему раньше вас не было здесь? – запальчиво спросил Митя.
– Я и раньше был, только не показывался тебе на глаза, следил за тобой с той стороны экрана.
– Да? Так бывает? Ни разу такого не слышал от моих друзей, например! – воскликнул осмелевший Митя.
– Ты и не мог этого слышать. Я располагаю возможностями только этого телевизора. Понимаешь?
– Не очень… – признался Митя и спустился с кресла, присел на коврик, оказавшись почти перед самым экраном. Любопытно, что будет теперь.
– Отодвинься немного подальше, – попросил Иван Иванович, – чтобы было удобнее беседовать.
Митя последовал его совету, сел в кресло и стал смотреть на экран.
– Митенька, так случилось, что у меня с рождения проявились необычные способности, которые помогли усвоить нужные и полезные знания, и ты можешь всегда обращаться ко мне с любыми вопросами и сомнениями, – улыбаясь, объяснял Иван Иванович. – Чем смогу, помогу обязательно.
– Ну, даже папа с мамой не всегда могут ответить на мои вопросы! – Митя с подозрением уставился на Ивана Ивановича. – И зачем мне… вернее, зачем вам это надо?
– Только не выключай меня! – попросил Иван Иванович. – Ты прав, мне это надо. Сразу тебе будет трудно всё понять, но потом поймёшь. Например, ты включаешь телевизор и смотришь какую-нибудь программу, затем – ещё одну; если у тебя нет вопросов… или неприятных ощущений – хорошо, смотри дальше. А если непонятно или…
– А если… будет непонятно и страшно… – неуверенно проговорил Митя.
– Вот именно в таких случаях и нажми кнопку «АА»: она – в нижнем ряду на твоём телевизионном пульте. Видишь её?
– Да… – Митенька быстро нашёл эту кнопочку, которую раньше почему-то не замечал.
– Или… – Иван Иванович смущенно попросил: – Разреши вмешиваться в некоторые передачи, чтобы помочь тебе как можно быстрее.
– А вы умеете, Иван Иванович? Правда? – Митя не ожидал ничего подобного, но решил, что так даже веселее. – Тогда давайте попробуем!
– Давай, – обрадовался Иван Иванович.
Митя нажал кнопку первой программы – показывали занимательный детский спектакль. Мальчик увлёкся и почти забыл о новом знакомом, но, немного погодя, вспомнил и в перерыве спектакля переключил программы – на пробу. На этом канале рассказывали о новостях дня: о собранном урожае, об открытии музыкального клуба, а в конце – криминальная хроника. У Митеньки прямо сердце замерло, когда он увидел на экране… Но тут же изображение исчезло – вместо покорёженного остова взорванного бандитами автобуса и снующих вокруг следователей и журналистов показался… Иван Иванович и сказал, обращаясь к Мите:
– Дорогой мой мальчик! Здесь только что случилась большая беда, и погибли люди. Представляешь, что им пришлось пережить перед смертью и каково их родным? Случилось это потому, что…
Иван Иванович неторопливо рассказывал, объясняя происшедшее простыми словами, успокаивая ребёнка.
Очертания катастрофы за спиной Ивана Ивановича уступили место приятному пейзажу.
– Люди на Земле должны жить долго и счастливо, не совершая преступлений, не уничтожая других, сохраняя природу и мир вокруг себя! – уже в самом конце заключил Иван Иванович. – Но поговорим об этом завтра, а теперь пора спать.
– Уже? – удивился Митенька. – А сказку на ночь?
– Хорошо, – широко улыбнулся Иван Иванович. – Включи третью программу, там сейчас начнётся очень интересный мультфильм «Исполнение желаний». Не смотрел?
– Пока нет, – Митя включил третью программу, посмотрел мультфильм, а потом лег спать. Сны его были лёгкими и приятными.
...С той поры так и повелось. Митя приучился смотреть по телевизору не всё подряд, а только стоящие того программы и передачи. Иван Иванович, можно сказать, выполнял обязанности няньки, воспитателя и педагога одновременно. Как только Митя включал программу, где «крутили» низкопробные фильмы, воспевающие легкую наживу, грубые удовольствия, разврат и насилие, Иван Иванович останавливал изображение и звук, а вместо этого появлялся на экране сам и говорил:
– Митя, пойми правильно: если ты будешь смотреть такие передачи, то вырастешь злым и распущенным человеком. Поэтому давай попробуем рассуждать так: телевизор смотреть вовсе не обязательно, но уж если ты включил его, то пусть он показывает тебе что-нибудь доброе или полезное. – И затем Иван Иванович рассказывал подходящую сказку или историю, на что был мастер.
Мите это очень нравилось, да и родители стали замечать положительные изменения в привычках и характере сына. Заметили также, что он стал интересоваться игрушками, книгами как-то иначе, чем раньше, более осмысленно.
Однажды Митя спросил у Ивана Ивановича:
– А можно мне рассказать о вас маме с папой?
– Конечно, только не напугай! – ответил Иван Иванович, потому что побаивался сам: вдруг взрослые воспротивятся ему?
Родители долго не могли взять в толк это «АА», этого Ивана Ивановича, долго не верили своим глазам, удивлялись, но, наконец, поняли, что плохого в этом нет. Сами поговорили с ним и убедились – полезно! А потом мама стала советоваться с ним по разным житейским делам, в том числе и по воспитанию сына, папа – по важным рабочим проблемам. Митя познакомил с Иваном Ивановичем и своих друзей – тем он показался симпатичным, и вообще понравилось, как он комментирует то, что идёт в эфире. С тех пор, как только дети приходили в гости, то первым делом – к телевизору: ну-ка, Иван Иванович, расскажи да покажи!
Вскоре в семье произошло важное событие: родилась девочка, назвали Лидочкой. Митенька очень обрадовался сестрёнке, часами не отходил от неё. У родителей забот прибавилось, но Иван Иванович умел занимать и успокаивать детей, а также подсказывать маме, особенно в экстренных случаях, например: вызывать ли девочке врача, давать ли лекарство, пора ли выходить на прогулку после болезни.
Надо сказать справедливости ради, что в доме со временем появился и компьютер, но, к общему счастью, центром притяжения не стал… К Ивану Ивановичу дома уже привыкли, как к члену семьи. Никто не забивал голову вопросами: откуда он такой взялся, откуда всё знает, почему поселился в телевизоре? Вскоре Митенька пошёл в школу – вот радость-то! Главная радость была в том, что Митя пошёл учиться с охотой – да-да! А после школы бежал домой, делал уроки, помогал маме управляться с Лидочкой. Если что – Иван Иванович помогал.
В школе тоже узнали, какой удивительный Телевизор есть у Мити, и мало того, что умный и добрый, а ещё и очень весёлый. То-то веселились компанией, когда собирались у Мити по праздникам! Иван Иванович научил ребят играть в старинные игры, показывал такие фильмы, которых не снимала ни одна киностудия, беседовал с каждым из гостей в отдельности, отвечал на заковыристые вопросы. Так время и шло.
Подрастала Лидочка, к ней стали приходить подружки – друзей у Ивана Ивановича становилось всё больше и больше. Одно было неприятно: учителя в школе отказывались верить в некоего Ивана Ивановича и его достоинства – простите, не «его», а в способности какого-то там телевизора. Придирчивый и дотошный директор школы сам приходил домой к Мите – убедиться лично. Нет, не убедился: обнаружить себя в его присутствии Иван Иванович не пожелал. Директор хлопнул дверью и ушёл.
– Ну, что же вы, Иван Иванович? – огорчился Митя.
– Ничего, – отвечал тот. – Ничего хорошего от вашего директора я не ждал. Видал я этих директоров…
Но тем дело не обошлось. В школе учителя перессорились между собой из-за Мити, и чего ради? Собрался педсовет по этому поводу, но ничего решить не смог. Пришлось собирать городской совет учителей, куда приказали доставить этот самый «Митин телевизор». Как ни отказывались родители, как ни упирался Митя, всё же пришлось согласиться, только с условием, чтобы вернули обратно в целости и сохранности.
Директор школы возмутился:
– А вот мы ещё поглядим, можно ли детям смотреть этот самый телевизор!
Городской совет учителей заседал ровно три дня, тридцать педагогов и три консультанта исследовали телевизор со всех сторон – ничего особенного! Включили – ну и что?
Так ни к какому выводу не пришли и постановили: отдать ученым на экспертизу. Узнав об этом, Митя расстроился окончательно. Дома все притихли в ожидании. Хорошо, что через неделю телевизор вернули с заключением о том, что «ничего сверхъестественного не выявлено, опасности для окружающих не представляет». Все обрадовались: «Опасности не представляет»! – и Митя с нетерпением включил телевизор.
– Как ваши дела, Иван Иванович? – спросил он и осёкся на полуслове. Иван Иванович, казавшийся всегда молодым и неунывающим, выглядел почему-то осунувшимся и постаревшим. Папа, мама и Лидочка посмотрели на Митю, готового расплакаться. Иван Иванович покачал головой и сказал:
– Да, дорогие мои, учёных больше интересуют новые загадки века, чем отгадки причин происходящего. Не каждый ученый способен употребить науку для добрых целей, злые дела бывают более выгодными… Поэтому мне пришлось спрятаться от них, не хотелось, чтобы меня обнаружили – устал я очень… Вот такие мои дела… А как вы тут без меня?
– А мы очень переживали, скучали без вас! – сказала Лидочка. – Мои куклы тоже соскучились! Отдохните немного и покажите нам, как девочки играли в куклы… ну, триста лет назад. Играли, точно?
– Сейчас-сейчас, дайте припомнить, какие тогда были куклы… – Иван Иванович на секундочку задумался, улыбнулся и начал рассказ. И чем дольше он говорил, тем более приходил в свою привычную норму; посвежел, повеселел; потом показал старинные кадры.
Родители убедились, что с любимым теледругом худого не случилось, поздравили его с успешным преодолением препятствий и вернулись к своим делам. После того случая с телевизором обращались очень аккуратно и бережно, чужим о нём не распространялись, никаких экспертиз не устраивали – хорошо и так!
…Странное дело: годы шли, другие телевизоры ломались и выходили из строя, а удивительный Телевизор работал и работал; мастеров не вызывали ни разу.
За это время Митенька вырос, сумел усвоить хорошие правила и получить нужные знания, а Иван Иванович помогал ему с удовольствием. Митя закончил школу, поступил в институт электротехники – не без поддержки теледруга, конечно же. Митя считал его самым близким другом и очень надеялся, что по мере обучения в институте ему удастся понять – хоть в какой-то степени – тайну Ивана Ивановича. На это намерение своего юного друга Иван Иванович смотрел снисходительно; он-то знал, какова природа познаний…
Действительно, «тайна» удивительного Айвашки достаточно проста для того, чтобы изучать её долго и кропотливо. Каждое время несёт в себе свою тайну, и не факт, что следующие за этим времена смогут раскрыть её вполне или хотя бы объяснить – частично.
Да и нужно ли?
Одному достопочтенному Королю досталось славное королевство, а также милая супруга и двое детей, Принц и Принцесса. В королевстве давно установились мир и покой, не происходило неприятных событий, народ пребывал в сытости и тепле, королевский трон держался прочно. Изнуряющие войны прекратились ещё в годы правления дедушки нынешнего Короля, и не нужно было наращивать силы армии, тратиться на вооружение; словом, можно пожить в своё удовольствие – и королевскому семейству, и народу.
Нечасто так случается в королевствах, поэтому следовало ценить такое везение. Везение оценили правильно, и царственные особы решили, что для упрочения благоприятности следует обратиться к наукам и музам. Науку, разумеется, оставили учёным, которые только того и ждали, а музы…
Надо сказать, музам повезло.
Король от природы был расположен к живописи, с детства не расставался с кистью и красками, и теперь проявлял истинно королевскую благосклонность к развитию таких же способностей в других людях – по всей стране стали открывать школы живописи для разных сословий. Королева, в свою очередь, обнаружила в себе таланты сочинительницы драматических произведений, и самые знаменитые театры начали ставить её пьесы, возымевшие неожиданный успех, что ей было весьма приятно. Принц и Принцесса получали соответствующие их сану воспитание и образование, как было заведено, приобщались к наукам и искусствам – больше, наверное, к искусствам.
Принц был музыкален с рождения, очень подвижен, и с удовольствием обучался, например, бальным танцам. Его учитель, когда Их Величества интересовались успехами сына, рассыпался в похвалах, а потом говорил сдержанно:
– Боюсь, как бы наш милый Принц не пожелал сделаться профессиональным танцором!
– Буду расценивать вашу шутку как наивысший балл, выставленный способному ученику, – отвечал Король.
Ах, Его Величество Король и не догадывался, как скромный придворный учитель близок к истине! Нет, дело было не в танцах, а вообще – в музыке… Учитель музыки занимался с детьми игрой на клавесине два раза в неделю. Принцесса уделяла внимание музыкальным занятиями не больше, чем математике или рукоделию. Девушка предпочитала выращивать живые цветы и составлять из них букеты, для чего ей была предоставлена огромная оранжерея. А Принц с удовольствием занимался не только музыкой по программе, но ещё увлёкся сочинением оригинальных произведений, в том числе и серьёзных не по возрасту, чем бесконечно радовал своего педагога. Тот и не предполагал, что его ученик так талантлив...
Музыка не умолкала под сводами дворца. Сначала дети обучались игре на клавесине, но случилось так, что один знаменитый на всё королевство мастер изобрёл так называемый «королевский клавесин» – рояль. Мастер всю свою жизнь потратил на своё изобретение, и оказалось, не зря! Слух о «королевском клавесине» моментально долетел до Короля, и он, конечно, тут же приказал, чтобы специально для него изготовили новомодный инструмент, достойный называться королевским в полном смысле слова. Королю постарались угодить, и вот инструмент – во дворце. Принцессе было почти всё равно, на чём играть гаммы и пьесы, а рояль показался нелепым и громоздким по сравнению с небольшим изящным клавесином.
А Принц… Как только он увидел инструмент, его тут же притянуло к нему, как магнитом. Он с нетерпением сел за рояль, сделал несколько аккордов, пробежался по клавишам, нажал на педали… Полное, мощное звучание ошеломило: у рояля – безграничные возможности!
«Ты прав, мой Король, я многое могу…» – отозвался рояль, только Принц этого не расслышал – пока… Но с тех пор очарованный роялем Принц начал постепенно охладевать к другим увлечениям, в том числе и к танцам; его стало невозможно оттащить от инструмента. Юноша музицировал всё свободное от других занятий время, а каждую свободную минутку записывал новые и новые мелодии в нотную тетрадку. Просыпался, бывало, ночью и – сразу за перо, а утром бежал к роялю, чтобы сыграть, что получилось. Придворные изумлялись такому обороту дел.
Их Величествам можно было и не спрашивать учителя музыки, каковы успехи сына: о его музыкальных способностях уже говорили во всём королевстве и… прочили Принцу блестящую музыкальную карьеру. Придворные учителя и наставники поражались, как прилежно Принц относится к музыкальным занятиям. И поскольку Принц, можно сказать, сроднился с роялем, некоторые сановники стали шутливо отождествлять их друг с другом и называть благородный инструмент не просто роялем, а «Королевским Роялем».
Надо признаться, что и рояль отвечал своей роли – быть Роялем Короля и Королём музыкальных инструментов!
Он – статен и элегантен, как и подобает Королевскому Роялю, его струны рождают певучие звуки, клавиатура широка, крышка – открывает звучание небу, подставка для нот – изящна, точёные ножки – крепки, педали – послушны. Принц не мог налюбоваться Роялем, часто и подолгу «беседовал» с ним, научился прислушиваться к нему, разбираться в его настроениях и в настройке, сумел уловить его душу, разговаривал на языке звуков – и получал ответное понимание… Иногда они беседовали, не произнося ни единого звука; читали мысли друг друга. Но музыка не умолкала никогда, сопровождая их диалог.
В тот раз первым начал Рояль:
– Рад, что ты оценил меня, рад, что понравился тебе, мой Король!
– Я пока не Король.
– Так будешь им. Хотя… – Рояль смущённо заскрипел педалями.
– Что, что ты хочешь этим сказать? – встревожился Принц и сыграл минорное арпеджио. – Мне… Нам что-то угрожает?
– Как я могу знать? – скромно отвечал Рояль, ослабив звук, когда Принц нажал левую педаль. – Моё дело – играть, что прикажешь ты. Я – Королевский Рояль, Рояль самого Принца. А для меня ты – желанный Король! Мне повезло, что мой Король – настоящий музыкант, истинный ценитель музыки. Я наслаждаюсь общением с тобой, а без тебя…
– Что, что «без меня?..» И почему же – без меня? – Принцу показалось странным, что Рояль слишком сдержанно отвечает при нажатии на правую педаль, усиливающую звук. – Давай-ка постараемся: посмотрим, что у меня получается. Я только что набросал начало торжественной рапсодии, надеюсь исполнить рапсодию на празднике в день прихода весны. Послушай-ка...
…Заканчивалась осень, до весны времени оставалось предостаточно. Принцу ничего не мешало сочинять польки, вальсы и рапсодии, а Принцессе – выращивать нежные цветы в зимней оранжерее, устраивать оригинальные выставки. У Их Величеств Короля и Королевы, как всегда, обнаруживалось нескончаемое множество забот. В первую очередь они были озадачены подготовкой страны к предстоящей зиме. Синоптики докладывали текущие и долгосрочные прогнозы, министры периодически анализировали обстановку, перечисляли меры и действия – государь должен быть уверен, что народ в полной мере обеспечен топливом, хлебом и одеждой.
Выходило, что с высшим обществом трений нет, с народом всё в порядке, с погодой и прочим – тоже, а вот... с Принцем…
– Что с Принцем? – поднял брови Король, впервые услышав утренний доклад не по правилам.
С некоторых пор, сначала по коридорам дворца, а затем и по городам королевства стали ходить слухи о том, что Принц настолько увлёкся своей «новой игрушкой», что жизни себе без неё не мыслит, а всеми остальными делами начал пренебрегать, и не только учёбой. Позвольте... Как – учёбой? Слыхано ли?! К чему это может привести в масштабах государства? Эти слухи и доложил Их Величествам Первый министр на октябрьском дворцовом заседании в Тронном зале. Король приказал тут же вызвать всех учителей и наставников Принца, строго расспросил их. Те нехотя подтвердили: да, Принц мало интересуется точными и естественными науками, вяло изучает юриспруденцию и право, «витает в небесах» на уроках психологии, игнорирует занятия фехтованием и стрельбой, зачитывается романами, но не историческими или документальными, как бывало прежде, а… романами и рассказами о старинных музыкантах! Её Величество Королева, лично составившая длинный список книг, которые Принцу следовало обязательно прочесть, была вне себя:
– А кто позволил, чтобы Его Высочество Принц тратил своё время, расписанное по секундам и предусмотренное для обязательных занятий, на вольное чтение? Кто допустил?
– Да, кто это допустил? – с деланным возмущением воскликнул Его Величество Король, предполагая, что всё это – пустяки. – Отвечайте!
Воспитатель Принца, пунктуальный и деликатный маркиз, отвечающий за королевское Дитя с самого рождения, воспринял сказанное Его Величеством настолько серьёзно, что тут же обвинил себя – и едва нашёл несколько слов для оправдательного ответа. Однако такой ответ не устроил августейшую чету. Назавтра Король с Королевой назначили расширенное дворцовое заседание и пригласили на него Его Высочество Принца, а заодно и Её Высочество Принцессу. Все снова собрались в том же зале, многие ничего хорошего не ожидали. Что ж – повторилось вчерашнее. Тогда после отчёта педагогов и учителей предоставили слово самому Принцу.
– Не знаю, как полагается отвечать в подобных случаях, но не отказываюсь: из всех занятий музыка стала для меня самым главным, – смело произнёс юноша.
– А до тех пор, пока во дворце не появился Рояль, вы тоже так считали? – строго спросил догадливый Король.
– Затрудняюсь ответить, но… – Принц видел, что его не понимают, не хотят понимать. – Рояль подтолкнул к тому, чтобы я сделал свой выбор.
– Я не ослышался? Какой ещё выбор? – заволновался Король, предчувствуя нечто, а по рядам подавленных заседающих пробежал тихий ропот.
– Ваши Величества, Ваше Высочество Принцесса, господа министры, педагоги, воспитатель, учителя и наставники! – Принц решил высказать то, что носил в себе, не предполагая до этой минуты, что говорить придётся не в семейном кругу (в обществе сестры и царственных родителей), а в присутствии важных лиц, имеющих безусловное влияние на Короля. – Будьте снисходительны. Я хочу стать настоящим музыкантом – нет, не просто любителем и ценителем музыки. Мне самому хочется быть её проводником и творцом, как к тому обязывает великий дар, которым меня осчастливили свыше. Так я понимаю своё будущее, свой долг.
В Тронном зале моментально воцарилась тишина – такая, какой не случалось в этих стенах несколько лет. Потом кресла вельмож прогнулись под их весом, и шум прокатился по залу. Что же это? Её Величеству Королеве стало дурно, и Её Высочество Принцесса была принуждена, нарушив этикет, подняться с места и собственноручно поднести матушке стакан холодной воды с ландышевыми каплями.
Но Король не растерялся и не терпящим никаких возражений голосом произнёс, глядя в глаза сыну:
– Ваш долг, сын мой, только один: наследовать королевский трон, тот самый, который мне передал мой отец, а ему – мой дед. Никто из наследников этого трона ни разу в жизни не уклонился от него, никто не уклонится и впредь. Мы с вами можем сколько угодно рисовать, музицировать, играть в шашки и тому подобное, но в меру, не забывая о главном. Будем считать ваше заявление следствием эмоциональной перегрузки, связанной с чрезмерными занятиями музыкой, что простительно в вашем возрасте, – Король поднялся с тронного кресла, на котором до сих пор сидел незыблемо, грозно глянул на учителей, подошёл к Принцу, стоящему в нескольких шагах перед ним. Он расправил горностаевую мантию и, не снимая с плеча, накинул правую полу на плечи Принца. – Ноша королей нелегка, и не нужно её утяжелять. Вы согласны, Ваше Высочество?
– Нет, не согласен, – с неожиданной твёрдостью отвечал Принц отцу, выскользнув из-под его руки, так и не выпустившей край мантии. – Простите меня, Ваши Величества, Ваше Высочество Принцесса… и присутствующие господа. Я так решил и настаиваю на этом. Моя жизнь – во власти музыки, а трон... Принцесса скоро выйдет замуж за Принца Северного Королевства, и они продолжат наш королевский род.
– Сын мой, – Король попробовал остановить его ещё раз. – Не будем делать скоропалительных выводов, влекущих за собой огромные неприятности. Поговорим позже, а на сегодня, – он обвёл строгим взором представительное собрание, – закончим. Благодарю подданных за усердие и преданность. Надеюсь, в этом году зима будет не слишком длинной и холодной.
У Принцессы немного отлегло от сердца, и она подумала, что ещё есть малая надежда – на весну. Однако... Зная характер сына, Его Величество Король не на шутку забеспокоился, но не стал развивать столь животрепещущую тему впопыхах и в присутствии посторонних – хотел побеседовать с наследником сам, без свидетелей, дабы Её Величество не огорчалась понапрасну. Понапрасну? …Нет, дело оказалось не таким простым.
Ночью Их Величества почивали очень плохо, что случалось крайне редко. Король попробовал вернуться к разговору с сыном на следующее же утро – бесполезно. Через день – то же самое. Принц от разговоров не увиливал, но с каждым разом всё более настаивал на своём, и с завидным упорством. Король был удручён бесконечно; он не мог согласиться с тем будущим, которое рисовал себе сын.
Государь утратил былую работоспособность, становился рассеянным в решении важных государственных вопросов, что недопустимо. Но как допустить, чтобы Принц... Король несколько раз ставил себя на его место, вспоминал свои юные и молодые годы – нет, не сходится: не было у него в молодости таких вольных порывов. Были, конечно, увлечения и слабости, но... Музыкант – видано ли? Не королевское это дело, не королевское.
А по существу – в чём же причина? Рояль… Королевский Рояль! Знать бы заранее, к чему приведёт появление этого рояля... Украдкой Король заходил в музыкальный класс, когда там никого не было; перелистывал ноты, открывал крышку рояля, осматривал его со всех сторон – даже постучал по крышке, прикоснулся к клавишам и на педаль нажал несколько раз. Ну, ничего особенного, а вообразили – звук, тембр, диапазон! И неужели какой-то рояль…
Рояль словно сжался в размерах и боялся выдать своё дыхание…
Король не поленился, открыл музыкальный справочник и прочитал: «royal – королевский, царственный». Так вот оно что – царственный! Какой-то рояль возомнил себя «царственным» и захотел соперничать с самим Королём – настолько одурманил голову Принцу, что тот готов стать… подданным инструмента, издающего приятные звуки – и всего-то?! Не бывать такому ни за что! Не бывать!!!
На следующей же неделе Его Величество Король созвал внеурочное заседание Кабинета министров и пригласил на него Его Высочество Принца. Её Величества Королевы и Её Высочества Принцессы в зале не было: Его Величество заблаговременно спланировал им прогулку по окрестностям…
– В последний раз задаю вопрос Его Высочеству: не отказываетесь ли вы от ваших пагубных намерений? – сухо спросил Король, нервничая сверх обычного. Придворные затаили дыхание.
– Не отказываюсь, – тихо отвечал Принц, глядя в пол.
– В таком случае... В целях соблюдения государственных интересов я вынужден прибегнуть к крайним мерам. Глашатай, зачитай мои указы, – он махнул рукой, разрешая огласить написанное им за прошедшую ночь.
Указы гласили: первое – Принца подвергнуть домашнему аресту в течение недели; второе – комнату музыкальных занятий освободить от рояля и использовать её по назначению (надо ещё подумать, какому!); третье – все рояли в королевстве изъять из употребления на некоторое время (оговорить!), а также запретить в стране все музыкальные инструменты, кроме… Тут глашатай остановился и посмотрел на Его Величество, ожидая подсказки. Король произнес:
– Сейчас уточним, без каких инструментов народ не сможет обойтись. – Не услышав ответа от министров, предположил: – Наверное, так: работа пастухов немыслима без рожков и свирелей. Правильно?
– Правильно, – эхом отозвались министры.
– Не приведи Господь, вдруг – война: значит, не обойтись без военных барабанов и походных труб. Правильно?
– Правильно, – слабым эхом отозвались министры.
– Ну, а если свадьба, поминки и… что там ещё? – Король посмотрел пристально на своих министров и не заметил, чтобы выражение лица хотя бы одного из них изменилось – никакой реакции, никакого мнения. Что за болваны бездарные, куклы, тряпьём набитые? Что с них взять? – Словом, оставим в резерве некоторые народные инструменты. Правильно?
– Правильно, – громким эхом отозвались министры.
– Возражений нет... Значит, решено. Записали? Несите, подпишу безотлагательно, – и Его Величество поставил три подписи под тремя Указами.
Судьбы Принца и Королевского Рояля были определены. На просьбу Принца попрощаться с Роялем последовал категорический отказ, и решение Короля обжалованию не полежало. Отдельным постановлением Принцу запретили покидать свои покои под каким-либо предлогом в течение десяти дней, на три дня дольше, чем значилось в Указе. Королева, узнав о жестокой мере в отношении сына, попросила супруга смягчиться, хотя бы не спешить с… Королевским Роялем, на что государь неумолимо отвечал:
– Королю пристало проявлять строгость в таких вопросах. Принцу предстоит управлять государством. Пусть приучает себя к этой мысли и начисто избавится от пустых фантазий. С роялями покончено!
Принцесса сочувствовала брату, но сделать ничего не могла. Она старалась заниматься учёбой прилежнее, чем обычно. Остальное время проводила в оранжерее, ухаживая за цветами и делясь с ними своей печалью – цветы только опускали головки в ответ. Музыка замолчала… Придворная челядь пребывала в тревоге: что-то будет? Министры стали дрожать за свои кресла, дворяне – ожидать от своих подданных каверзных выходок, а народ действительно лишился спокойствия и поводов для веселья. Гроза повисла в воздухе, и подумать только – всё из-за какого-то рояля…
С роялями покончено – Так им, этим роялям, и надо, чтобы нигде их не было видно и слышно!
Принц целые дни просиживал в своей комнате, размышлял; иногда открывал ноты, мысленно играл знакомые произведения; изредка записывал новые мелодии. Тоска одолевала... Может, отец в чём-то прав? Нет, его душа протестовала. Он подходил к окну: зима вступала в полную силу, скоро Рождество. Король приказал снять арест точно в срок, но когда этот срок подошёл, Принц отказался покидать свои покои.
– Не желает, и всё, Ваше Величество, – доложили Королю.
– Ну что ж, это его право.
Проходила зима, а дела в королевстве шли хуже некуда: придворные всех мастей и рангов шушукались по углам, большинство обслуги научилось слоняться без дела и совершенно отбилось от рук. Все торжественные, праздничные и увеселительные мероприятия, как во дворце, так и во всём королевстве были «заморожены на год». Его Величество подписал соответствующий Указ. Никто не помнит, чтобы столько указов подписывалось подряд! Так и минуло Рождество, а потом Крещение – безрадостно. Народ впадал в меланхолическое настроение, обнаружившее в покладистых и работящих людях массу дурных привычек. У молодёжи пропадала охота к учебе, к работе, к праздникам, и вообще…
Тем временем министры допустили массу ошибок и настряпали таких взаимоисключающих друг друга документов, что враз наметился конфликт с северным соседом. Северный Король давно надеялся вернуть себе территории, отошедшие когда-то от его прадедов прадеду нашего Короля, а тут и случай подвернулся. «Отошедшие незаконно» – так был поставлен вопрос северянами. Его Величество Король, как на грех, неосторожно подписал в ответ роковые претензионные бумаги, вызвав неописуемый гнев Северного Короля. Вот что случается при нарушении размеренного порядка вещей, в суете и неоправданной спешке!
Когда бумагам дали ход, кинулись искать виноватых – таковых не оказалось… А послы, дипломаты, советники? Все кивали друг на дружку... Дворяне очутились в двойной западне, стали фактически заложниками ситуации и начали опасаться своих подданных. Опасались не зря. В народе началось бурное брожение, обсуждение и осуждение всего без разбору. Кругом заговорили о том, что прошли мирные времена, пора готовиться к войне. Спокойствие улетучилось, поводы для веселья – тоже.
Следующие события разыгрались как по нотам. Однажды, поутру, к королевскому дворцу на взмыленном коне прискакал посланец с северной границы. Он потребовал личного свидания с государем; его провели к Его Величеству, и гонец передал весть о нападении несметного войска с той стороны, откуда, казалось бы, все нападения исключались ещё полгода назад. Словом, не успел наступить март, как грянула война. Если бы Король был способен воевать или хотя бы имел опору в армии!
Ни того, ни другого, увы…
Армейские генералы раньше гражданских министров и ученых-дипломатов предвидели нападение врага, но прямо не высказывались, опасаясь потерять не только звёзды на погонах... Теперь же – делать нечего: извлекли на свет циркуляры по боевым действиям, мундиры, сабли, ружья, боеприпасы, приставили к ним офицеров и рядовых. Война началась нешуточная, и по всей северной границе полилась кровь. Чиновники и министры применили принятые в таких случаях меры для заключения быстрого перемирия, но толку не было – и уже никто не надеялся уладить конфликт, как раньше говорили, «по-доброму». Одно за другим – и в пылу сражений уже забыли, с чего всё началось. Когда же докопались до причин, вызвавших войну, было поздно отменять боевые действия.
Что же оказалось? А то, что причин-то для развязывания войны и не было: в архивах обоих втянутых в конфликт государств почти одновременно обнаружилось «Согласительное письмо», подписанное уважаемыми прадедами нынешних королей. Документ подтверждал, что якобы спорные земли уже двести лет как принадлежали и принадлежат нашему Королю. Это значит, что оба королевства должны пребывать в пределах существующих границ, не претендуя на передел территорий.
Но как быть, когда с той и другой стороны
сыпались указы: продолжать?!
Хуже нет – воевали зря, а всё равно не прекращали сражений…
Силы обеих сторон быстро иссякали, но остановиться было невозможно. Король пенял на министров, да и на себя, Королева только плакала украдкой. Оба давно потеряли покой, сон и аппетит. Принц с Принцессой чувствовали себя в чём-то виноватыми, но говорить с родителями о войне не хотелось. К тому же и показываться лишний раз им на глаза не стоило, особенно Принцу, прекратившему всё-таки своё добровольное заточение в силу чрезвычайных обстоятельств… Впрочем, это никого не беспокоило.
Но как-то раз Принц порывисто высказал отцу:
– Ваше Величество, простите великодушно, не гневайтесь на прошлое и позвольте мне принять участие в военных действиях!
– Ваше Высочество, пока ещё я принимаю решения, кому и чем заниматься в таких случаях, – отвечал Король – Оставайтесь при исполнении своих обязанностей, а там поглядим.
Королю, конечно же, было труднее всех: он-то понимал, что нужно срочно прекращать войну, но не знал, как. Знал ли Принц? Министры? Военачальники? Вряд ли… В который раз дипломаты предложили переговоры – противник снова отклонил их категорически. Тогда, потеряв остатки терпения, Король заявил, что срочно едет на фронт сам. Никакие и ничьи увещевания или доводы не смогли его остановить: он решил! Так необдуманно он не поступал ни разу в жизни…
Во дворце не успели получить никаких указаний по поводу возможных государственных неожиданностей, как Его Величество (лишь с малой горсткой офицеров!) уже был на передовой. Не дал никому опомниться – и его конь несётся на правый фланг, приготовившийся к выступлению. Военному командованию некогда было удивляться – Король тут же взял командование на себя, поднял солдат из окопов, резервистов из тылов и… Забили барабаны, затрубили трубы, зазвучали громкие приказы из уст Его Величества. Ах, как это было не похоже на Короля – ринуться на врага впереди всех! Рядовые и командиры обомлели, но последовали за Королём, однако едва поспевали за ним. А каково солдатам Северного Королевства? Те вообще не ожидали увидеть так близко чужого Короля, когда и своего-то видели только на картинках; а уж поднять руку на Короля, пусть и на Короля-противника не смогли бы ни за что. Они почти сразу прекратили пальбу по приказу своих офицеров, распознавших в первом всаднике, атакующем их ряды, царственную особу. Но так вышло…
Одна-единственная рана, полученная Королём, оказалась смертельной. Судьба это или... Как ни странно, сражение тут же прекратилось – все словно замерли в бессилии. Прибывший на позиции королевский врач констатировал смерть. Короля прикрыли королевской мантией; долго не решались объявить подданным о его смерти, приступить к церемонии прощания.
Когда сообщение о кончине Короля дошло до королевского дворца, Её Величество Королева только прошептала:
– Боже, я так и знала…
Она не перенесла потрясения и умерла через сутки от сердечного приступа – королевский врач и тут оказался бессилен. Их похоронили вместе в королевской усыпальнице… Был объявлен государственный траур, затем – военный тайм-аут. Потом возобновились переговоры – и, вопреки ожиданиям министров, предполагавших худшее, противник согласился на перемирие. Неужели виден конец кровопролитию? Кажется, Северный Король начинал что-то понимать, но какова цена такому пониманию: оба королевства оказались в водовороте несчастий, каких не ждали!
Убитые горем Принц с Принцессой не находили себе места: мало того что осиротели, им приходилось думать, что будет с ними обоими и с государством. Принцесса была неутешна, а Принц… Он считал себя главным виновником происшедшего. Трагедией королевской семьи не преминули воспользоваться вельможи, министры и военная верхушка, желающие «урвать» кусок пожирнее. Придворные разделились на две половины. Большинство оказалось в стане противников закона, правда, побаивались ввязываться в заговоры – вдруг провал? Немногие сторонники Принца остались верными правящей династии.
– Нельзя давать волю чувствам, Ваше Высочество, когда государство в опасности! – призывали они Принца. – Вы стоите перед самым серьёзным выбором в жизни: государству нужен государь. Решайтесь, не упустите время!
– Понимаю свою задачу, – отвечал Принц, который за несколько последних дней пережил столько горя и узнал столько нового, что этого ему хватило для полного осмысления вопроса власти. – Да, я обязан и вполне способен отвечать за свершившееся и за… судьбу королевства. Не отрекаюсь!
Принц и в самом деле понял, что значат воля и власть, осознал, что только его верные шаги могут спасти сестру, государство и корону. Объявил всем, что готов к действиям, что знает, как следует поступать. Услужливые советчики принялись заискивать перед ним, стараясь угодить на всякий случай, хотя надеялись на полное падение короны:
– Ваше Высочество, откажитесь! Вы слишком молоды, вряд ли сможете управлять державой, да помнится, и не собирались…
– Это я раньше не собирался, а при теперешних обстоятельствах готов нести бремя ответственности, мало того, заявляю о намерении соблюсти все формальности закона о преемственности короны! – поставил их на место Принц.
Так корона не упала – Принц с достоинством принял её. Коронация состоялась. Принца объявили полноправным Королём к радости верноподданных, у которых появилась некоторая уверенность в будущем…
Молодой Король тщательно разобрался в делах, изучил направления своей деятельности, определил слабые места экономики и политики. А первым делом утвердил новый Кабинет министров из верных и умных людей, поэтому никаких заговоров и переворотов в стране не случилось.
Вскоре возобновились переговоры с Королем Северного Королевства – тот посчитал поступки нового Короля разумными, полностью прекратил военные действия, перешедшие к тому времени в единичные столкновения. В течение месяца договорились о межгосударственных границах, почти повторивших прежние. «Зачем же было затевать войну!» – так-таки не выходило из головы нового Короля. Из головы Принцессы не выходила мысль о том, что теперь она ни в коем случае не выйдет замуж за Принца Северного Королевства, к которому раньше испытывала склонность; жаль, но этот любезный когда-то Принц, да и вся их фамилия...
Достижение полного мира – вот главное, что сделано.
Забот у молодого Короля – не перечесть: одолеть разруху, накормить народ, а прежде всего научиться употреблять свою неограниченную власть во благо трона и верноподданных. Иногда ему казалось, что не справится, но, как говорили придворные, «с таким характером можно не только нашим королевством управлять, а и целой империей». Об «империях» Король не помышлял, однако приложил всё свое умение, чтобы, выдержав положенные сроки траура, выдать сестру замуж за принца Юго-Западного Королевства, человека весьма приятного и неглупого. Этим достиг двух целей сразу: и сестра осталась довольна, и границы на юге упрочились.
Прошло некоторое время…
Постепенно жизнь входила в своё русло. В странах, недавних противницах, люди оплакали погибших, начали заботиться о хлебе насущном, пахать землю, восстанавливать хозяйства; вспомнили забытые ремесла; возродились торговля и добрые традиции, потревоженные безжалостной войной. Человеческие отношения значительно потеплели, государства окрепли. Значит, всё складывалось относительно неплохо, и Король мог быть доволен, однако…
Пушки давно уже молчали, а музы в родном королевстве так и не заговорили в полную силу – люди не забыли залпов орудий.
Прошло ещё несколько лет. Первый этап послевоенного восстановления был завершён. Появилась уверенность в завтрашнем дне. Жизнь потекла веселее, а как же: пусть будут не только похороны, но и свадьбы! Сам Король всё ещё не был женат, хотя по статусу полагалось. Не так-то всё просто… Ему пришлась по душе очаровательная Принцесса Восточного Королевства, тонко разбиравшаяся в искусствах, но та не спешила с выбором – наверно, ещё и потому, что выбирать пришлось бы среди враждующих или находящихся в оппозиции друг к другу принцев и королей. И вот дождалась – воодушевленный Король сделал ей предложение и получил согласие. Король женился! Это вызвало одобрение сестры, близких и дальних родичей, порадовало народ, способствовало дальнейшей стабилизации обстановки во всём регионе. Восточное Королевство издавна дружило с западными государствами, у Юго-Западного Королевства сложились добрые отношения с южными и восточными соседями, и границы между ними казались условными.
К тому же молодая Королева оказалась нежным другом и советчицей любимому Королю. Она сумела подружиться с дворянским обществом, жаждущим блеска праздников, настроить его на возрождение светской жизни. Вскоре принялись давать балы во дворце, концерты в больших залах, представления на площадях; поощрялись и народные праздничные гуляния – этого так долго не было! И приближённые ко двору, и простые люди всё больше смягчались душой. Музыка входила в свои права.
Недавняя война вроде как отошла далече, забылась…
Время лечило раны, рождало новые радости. В королевстве воцарилось спокойствие; каждое действие и слово Короля имело замечательные результаты, и он мог быть доволен. О Короле говорили почтительно, о Королеве – восторженно. Можно было успокоиться на достигнутом – искусства расцветали. Но Королю не давало покоя прошлое, и он, которому дозволено всё, будучи в состоянии решать самые сложные государственные и международные вопросы, не мог сделать самого простого – сесть за инструмент, сыграть любимые произведения, не то, что не забытые, а будто сросшиеся с его памятью навсегда…
Мир, полный красок и звуков, оставался закрытым для душевного творчества.
Даже ноты ни разу не раскрыл за эти годы; что-то его сдерживало. Кроме того, рояля во дворце так с тех пор и не было – не хотел. Её Величеству Королеве была известна вся печальная история с роялем. Она понимала любимого супруга, только не знала, как ему помочь исподволь, чтобы не всколыхнуть прежнюю боль…
Его Величество часто бродил по окрестностям дворца, вспоминая родителей; подумывал о том, что при дворце нужно открыть новую галерею рисунков и картин отца, а на театральных сценах страны возобновить спектакли по драматическим произведениям матери. Радовало, что Принцесса устроена достойно; родители, будь они живы, тоже порадовались бы… Но тоска не исчезала, упорно возвращая к юным и детским годам, особенно к самым ранним. Хотелось окунуться в тепло прежних переживаний, в мир милого детства...
Однажды, в конце февраля, во время одной из прогулок вдруг вспомнил, что уже несколько лет не навещал близкого родственника по материнской линии, старенького дядюшку Герцога, горячо любимого им в детстве. Их с сестрой, тогда ещё малышей, привозили к дядюшке очень часто. И как приятно там было! Не съездить ли теперь?
– О, это неплохая мысль, – поддержала Короля Её Величество. – Даже и я слышала много доброго о вашем знаменитом дядюшке – раньше, и не один раз!
Дядюшка, к счастью, был жив, хотя и очень стар. Он очень обрадовался, когда Их Величества объявили о намерении посетить его в ближайшее время. Своё родовое имение Герцог поднял как по тревоге: будем готовы принять царственных гостей! Сам же при этом переживал больше всех, и причина тому была… Когда королевская чета прибыла, Герцог просто светился от счастья: он дожил до этого дня. Радостная встреча растрогала до слёз. Несколько дней гости провели в замке, позабыв невольно обо всех других делах. Её Величеству Королеве так понравились вид и убранство замка Герцога, что она стала планировать постройку похожего в будущем.
Его Величество Король с удовольствием отметил, что сам Герцог и его замок мало переменились с давнишних пор, только хозяин замка сейчас выглядел удрученным – иногда... Тем не менее, пока Их Величества находились в замке, Герцог и его семья были вежливы и предупредительны, окружали гостей сердечным вниманием. Король настолько отвлёкся от дел, что привык к отдыху; даже подумал, как бы не пропустить намеченное на ближайшую среду расширенное заседание Совета попечителей сирот, оставшихся после войны. До сих пор он не пропустил ещё ни одного заседания.
Подошла пора возвращаться. Всё было наготове, но Короля что-то сдерживало от резкого расставания – его не покидало странное чувство, что дядюшка чего-то не договаривал, стесняясь или побаиваясь откровенности. Уже перед самым отъездом, когда осталось только тронуться в путь, прогуливаясь с Герцогом по аллеям парка, Король всё же спросил:
– Дядюшка, вы давно знаете меня, знаете, как я к вам отношусь, да и всё прочее. Простите, если спрошу некстати, но… Вы так удручены чем-то… Нет ли у вас от меня тайны – не личной, конечно, а вообще? Можете не отвечать, если не хотите.
– Что вы, Господь с вами, друг мой, – с жаром отвечал Герцог. – Да если бы я обнаружил в моем окружении хотя бы намёк на какую-нибудь тайну, касающуюся государственных вопросов, я бы непременно вам доложил. Вы можете полностью доверять мне!
– Простите меня, ведь я имел в виду совсем не то… – Королю стало неудобно продолжать: он боялся огорчить дядюшку, видимо, напуганного и прошлой войной, и смертью Королевы, его кузины, и сменой власти... – Пожалуйста, забудем об этом.
– Ваше Величество… – Герцог запнулся, покашлял, но набрался смелости и продолжил: – Если говорить «о прочем», то всё-таки одна тайна у меня есть, и не лично моя, а вашей добрейшей матушки. Будь она жива… – Герцог обронил горькую слезу, но большего не позволил. – Теперь, когда её нет, могу признаться вам; хотел раньше, да случая такого не представлялось. Я понимаю, как вам нелегко, и хотел бы, чтобы то, что скажу... нет, покажу, не огорчило, а обрадовало бы вас. Пожалуйста, пойдемте за мной.
У Короля помутилось в глазах, и он едва не расплакался сам. Герцог крепко взял Его Величество за руку, как брал когда-то в детстве, и повёл за собой. Они прошли вдоль цветущей ограды, миновали фонтан, спустились по ступенькам парка вниз и оказались перед небольшим особняком, словно спрятавшимся за густым кустарником и кронами деревьев.
– А я и забыл, что у вас есть этот милый дом! – воскликнул Король. – Теперь припоминаю, как мы в детстве бегали вокруг...
– Неужели помните, Ваша Милость? – улыбнулся Герцог. – Этот дом очень любила ваша матушка – и тоже, в своём детстве. Уютный и славный домик! О нём мало кому известно даже из моих близких друзей, мы сюда обычно никого не приглашаем, кроме... Ну да пойдёмте!
Вошли в дом – входные двери оказались предусмотрительно отперты. Бегло осмотрели залы первого этажа, и Королю всё припомнилось, даже запахи не изменились. Теперь эти комнаты показались ещё более милыми и прекрасными, чем раньше.
Как чисто и просто можно устроить жизнь!
– Дядюшка, как у вас тут хорошо! Я рад, что вы показали мне ваше «гнёздышко», ведь мы с матушкой иногда вспоминали и о нём… Не поверите, как мне приятно. Так это и есть ваша тайна?
– Нет, – отвечал Герцог, – сам по себе дом не может быть тайной, но есть в нём кое-что интересное для вас, надеюсь…
Герцог снова взял Короля за руку, и они поднялись на второй этаж по центральной лестнице, прошли по коридору, остановились возле входа в угловую комнату. Двери в комнату были плотно прикрыты.
– Вот… – Герцог отворил дверь, пропустил Короля вперёд, тот нетерпеливо вошёл и оказался в небольшом тёмном зальчике. Окна были задрапированы шторами, и свет едва проникал в помещение. Герцог подошел к окну, собственноручно раздвинул шторы и покинул комнату. Король сначала почувствовал, а потом увидел… В правой стороне зала, если смотреть от входа, не бросаясь в глаза, стоял рояль, прикрытый тяжелым бархатным покрывалом, – его силуэт показался очень знакомым.
– Это он… – тихо прошептал Король, медленно подходя к роялю, осторожно снял и отбросил в сторону покрывало, погладил ладонями прохладную поверхность крышки, положил на неё голову, прижался щекой. – Мой Рояль…
Он обошёл инструмент со всех сторон, провёл руками по боковым стенкам, прикоснулся к резным ножкам, к педалям. Потом поднял крышку, словно крыло огромной птицы, и едва дотронулся до струн – они отозвались близким эхом. Пододвинул стул, сел, пробежался по клавишам…
– Здравствуй, дорогой… – слёзы стояли у самого горла. – Ты меня ещё помнишь?
– Здравствуй, мой Король, – чистым голосом ответил Рояль. – Ведь теперь ты – Король, и я очень рад, что дождался тебя! Я чувствую, что ты много пережил… по моей вине…
– Не нужно об этом, прошу, прошу, – остановил слёзы Король. – Если бы ты знал…
– Я всё знаю, не терзай себя, – успокаивал его Рояль, упиваясь звуками, которые Король с нежностью извлекал из его глубин. – Все эти годы я только и делал, что ожидал твоего прихода; я помню твои руки, твои мелодии, твою любовь. Прости меня за всё. Жизнь испытала тебя, и теперь... Доверься мне! А помнишь, ты начал сочинять торжественную рапсодию – ко дню прихода весны? Довёл ли до конца?
Король хотел излить всё, что скопилось на душе, хотел ответить, что не смог, не сумел, не успел в то самое время, когда… Рояль не слушал его сбивчивые объяснения, а вторил движению его сердца, трепету его души, прикосновению его рук.
– Играй, мой Король! Забудь обиды и печали, впереди – весна, она уже на пороге. Так встречай же её своей рапсодией!
…Дядюшка стоял за дверью и переживал: сначала – от страха, что Король расстроится и огорчится, потом – от нахлынувших на него чувств, навеянных замечательной музыкой. Как хорошо, что мальчик не забыл её!
Тема разрасталась и ширилась, мелодия то вырывалась на волю, то замирала; темп всё ускорялся – и весна наполняла мир нежными запахами, щебетанием птиц, шелестом трав, человеческими голосами.
Звуки несли в мир торжество жизни, полноту счастья, радость любви. Как только музыка стихла, Герцог осмелел и тихонько вошёл в комнату.
– Дядюшка… – только и вымолвил Король, не отрывая глаз и рук от инструмента. Потом медленно поднялся, подошёл к Герцогу, обнял его, и они долго стояли молча, крепко обнявшись…
Когда оба успокоились, Герцог сказал:
– Ваше Величество, вы меня потрясли… Вам, наверное, хотелось бы знать, как ваш рояль оказался у меня?
– Конечно, дядюшка, я и не ожидал, что когда-то увижу его.
– Когда ваш царственный батюшка приказал «изъять из употребления» все пианино и рояли, ваша матушка умолила его разрешить ей самой распорядиться вашим инструментом. Ваш батюшка сначала наотрез отказал ей, но потом сжалился и внял её просьбе, только чтобы скорее – с глаз долой! И тогда я сам предложил перевезти Королевский Рояль ко мне, в этот дом, на что она с радостью согласилась. Рояль тут же доставили прямо сюда, в эту комнату. С тех пор он так и стоял – ждал…
– Получается, он простоял все эти годы, и никто не играл на нём? – спросил озадаченный Король.
– Никто, – отвечал дядюшка. – Слугам было строго приказано никого не допускать в дом, а тем более – в эту комнату.
– Странно, – произнес Король в недоумении. – Инструмент нисколько не расстроен, не отсырел, сохранился отлично. Да и я, оказывается, ничего не забыл!
Он снова сел за рояль, стал играть. Дядюшка слушал с волнением, вновь и вновь глубоко переживая то, о чём редко говорят вслух.
– Ваше Величество, вы, наверное, захотите забрать инструмент? – спросил он, когда музыка умолкла.
– Забрать… – Король задумался. – Удобно ли будет, и… как посмотрят на это придворные? Да и я сам... Уверен, что Её Величество будет в восторге, но что народ станет думать о Короле? От людей скрыть ничего невозможно!
– Позвольте быть откровенным, Ваша Милость! – Герцог говорил взволнованно, но уверенно. – Поверьте мне, ваши подданые сочувствуют вам, а многие полагают, что даже их собственные страдания, причиненные этой ужасной войной, не так тяжелы, как пережитое вами. Людей не проведёшь, и они верят вам, надеются на ваш разум, рассчитывают на ваше милосердие. Теперь у нас в королевстве безмятежно, и это в большой степени – благодаря вам, – он с надеждой и ободрением смотрел на Короля. – А ваша любовь к музыке, к этому Роялю…
– Да-да, как быть с ней?! – пылко воскликнул Король.
– Как? Быть Королём, достойным короны – это целое искусство. Ваш Рояль преподал всем нам хороший урок. Люди не могут обойтись без музыки, и если Его Величество Король – до такой степени – король и музыкант, значит… Словом, все только и ждут, что кроме государственных дел вы займетесь также и тем, к чему лежит душа. Поверьте, это принесёт много радости окружающим. И позвольте добавить: ваши родители теперь могли бы гордиться вами. Уверяю чистосердечно, не стоит изводиться думами о прошлом. Ведь музыка всегда устремлена в будущее!
…Рояль растроганно внимал беседе родных людей. Десять лет он не слышал ни одного человеческого слова, и только эхо чьих-то шагов за стенами комнаты изредка напоминало о том, что забыть невозможно. Скоро, скоро его заберут во дворец, и сам Король будет приходить каждый день – извлекать из его струн изумительные звуки, способные будить самые светлые чувства и сглаживать тяжелую память прошлого.
Бывает ли что-нибудь прекраснее этого?
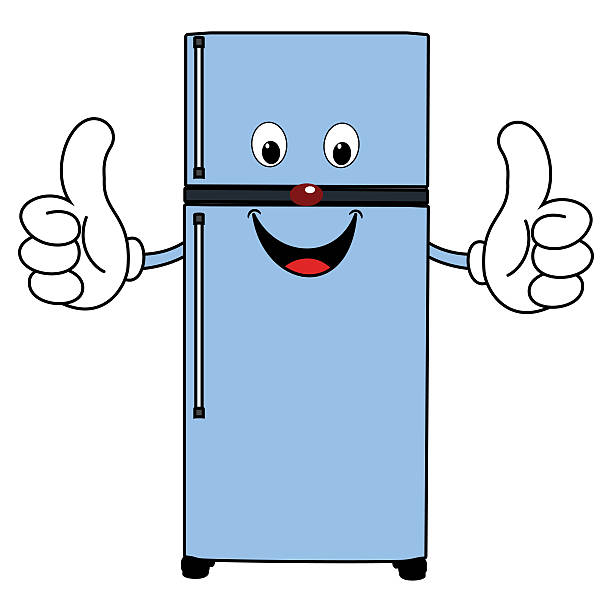
Холодильник облюбовал местечко у самого кухонного окна, изредка посматривал на улицу. Он полюбил такое занятие: ведь на что было смотреть-то? На Шторы, на Кухонный Стол, на две-три Табуретки? Именно эти предметы стояли к нему ближе всего, но он к ним давно привык и думал: чего в них интересного?
Да и остальное…
Ну, от остального не стоило бы огульно отмахиваться. Холодильнику покоя не давали две подружки, обосновавшиеся чуть поодаль: Морозильная Камера и Кухонная Плита. Подружками он называл их просто так, для краткости, а честно сказать, считались они не подружками, а соперницами.
Ему было приятно сознавать, что он сам выступает в роли предмета их притязаний. Но допустим, и приятно, а дальше? При всём различии они обе в равной степени нравились ему своей наружностью и внутренним содержанием, вместимостью и назначением. Да-да, только эти дамы могли сравниться с ним габаритами и важностью происхождения. Они-то и составляли конкуренцию друг дружке, обе надеялись добиться его расположения – когда-нибудь. Надо бы остановиться на одной из них, но Холодильник не спешил. Он был достаточно просвещён и опытен в вопросах качественного устройства жизни (на чужих примерах), поэтому откровенно тянул с выбором дамы сердца: куда торопиться? И зачем ошибаться? Ошибки можно допускать, только не принципиальные... Пусть сначала проявят себя, а там будет видно. Нет-нет, спешка делу вредит, а такие Холодильники, как он, не скоро сойдут с серийного производства, так что подождать есть смысл.
Конечно, он, как только оказался в этом доме, первый взгляд невольно бросил на Кухонную Плиту. Хороша, ах, как хороша, да с «изюминкой»: тёмная шатенка, среднего роста, полновата в меру, исключительно чистоплотна, следит за собой, общительна. А конфорки сияют, как солнышки! Зимой за окошком солнца нет, а на кухне – пожалуйста. А какая хозяйка, как готовит – говорят, «пальчики оближешь»!
– Ага, миленький! – словно услыхав его мысли, подхватила расторопная Кухонная Плита, проверяя, не слишком ли «подзолотился» лучок на сковородке. – Да я ж для тебя… Со мной-то никто не сравнится, я – вне конкуренции: и стряпаю, и пеку, и кипячу, и жарю, и парю – износу мне нет. У нас с тобой, голубчик, получится красивая жизнь: всё, что ты скопил и сохранил, я «до ума доведу». Смекаешь? Все охлаждённые продукты и полуфабрикаты только тогда становятся готовыми к употреблению, когда я над ними «поколдую». Мы с тобой – самая выгодная пара на свете. Да я знаю… – тут Кухонная Плита напряглась и выдохнула запах капустных пирогов из духовки. – Я-то знаю, на кого ты засматриваешься, сударик мой…
Холодильник и сам знал, что за ним водится; уж слишком часто поглядывает в сторону Морозильной Камеры, испытывая к ней самые свежие чувства и к тому же… У них с Холодильником обнаруживалось кровное, нет, генетическое, а скорее даже выкристаллизованное родство. Да и внешне она была абсолютной противоположностью Кухонной Плите: яркая блондинка, солидная и величавая леди, высокая и статная, ни одного слова бессмысленно не произнесёт, а только иногда:
– Приветствую вас, уважаемый господин, и поздравляю с приближающимся летним сезоном. Одновременно позвольте обратить ваше внимание на повышение температуры окружающей среды, что плохо влияет на наше с вами здоровье… И пожалуйста, соблаговолите не отказать мне в просьбе: расположите в вашей морозилке часть моих продуктов, а то, понимаете ли, моя верхняя камера переполнена до предела…
Надо ли говорить, что Холодильник с радостью раскрывал объятия и уступал часть своей морозилки продуктам из Морозильной Камеры, после чего та дарила его такой ослепительной ледяной улыбкой, что у него от морозного жара щемило сердце и сводило весь агрегат одним желанием – ещё больше нравиться ей!
В таких случаях Кухонная Плита не выдерживала и протестовала – пыхтела, например, кипящим супом из пятилитровой кастрюли:
– Ну и нахалка! Лицемерка! Ну и врёт, что «до предела»! Ни стыда, ни совести! Нет, чтобы самой разгрузить Холодильник в такое трудное время, а она ещё и сесть ему на голову норовит! Ну и манеры, ну и воспитание! А я… Я бы… всей душой и телом помогла моему ненаглядному другу, а не так вот – ледяной массой задавила…
Охлаждая пыл Кухонной Плиты, Морозильная Камера удостаивала её взглядом презрения, ибо пререкаться с ней считала ниже своего достоинства: «Подумаешь, кухарка, кухаркина дочка, а мы с Холодильником – благородных, северных кровей, что ни скажи. Мы ещё покажем всем вам!» Эта неравная перебранка ставила Холодильник в неловкое положение, привлекала к нему всеобщее внимание на кухне. Их кухня мало отличалась от других кухонь в таких же домах, и желающих «перемывать косточки» друг другу находилось предостаточно. К главным «говорунам», вернее, «говоруньям», в первую очередь, относились Кухонные Полки: они висели выше всех, раньше других разглядели любовный треугольник и очень скоро разобрались, что к чему. К сочувствующим положению Холодильника относились Кухонные Шторы.
Когда Холодильник подолгу засматривался в окно (а засматривался он всё чаще и чаще, отворачиваясь от неразрешимой проблемы выбора), Кухонные Шторы думали: «Надо же, как его угораздило!» – но кроме их тихого шуршания ничего слышно не было. А Кухонные Полки не отличались деликатностью и громко посмеивались, поскрипывая всеми шурупами и перегородками. Своеобразные пикировки между солидными дамами, вызывающими Холодильник на откровения, повторялись чуть ли не каждый день и веселили их, а уж потом – с их подачи – все остальные предметы Кухонного Гарнитура. Мало того, чтобы жизнь не показалась унылой, Полки принялись негласно собирать общественное мнение по поводу: какой паре в треугольнике отдать предпочтение?
Сестрицы Полки очень любили друг дружку и симпатизировали всем, кто был «из их круга», да и прочим, если те составляли хорошую компанию, поэтому сами и предпочли пару «Холодильник – Морозильная Камера». Всё логично: и Холодильник, и Морозильная Камера были из одного круга. Правда, пока они определили это относительно, только между собой, никому не навязывая своего сугубого мнения. У Кухонных Табуреток и Кухонного Шкафа мнения совпадали редко, но в данном вопросе они оказались единодушны. Общий вывод шёпотом огласили Табуретки:
– Мы горой стоим друг за друга. Попробуй, тронь хоть одну из наших Табуреток! Вон, когда у второй Табуретки сиденье сломалось, Шкаф так и сказал ей: «Будьте любезны, возьмите мою дверцу и почините ваше сиденье». Она, конечно, не согласилась принять такую несоизмеримую жертву – но сам факт! К чему это мы? А вот к чему. Знаем мы и Кухонную Плиту, и Морозильную Камеру, уж не говоря о Холодильнике; давно смотрим на них со стороны, и убедились кое в чем. Да, мы согласны с тем, что больше надёжности просматриваем в союзе Холодильника с Морозильной Камерой, а добрый союз – залог нашего общего кухонного благополучия!
Что думали другие? Шторы, к которым Холодильник иногда прислонялся душой, не соглашались с этим заключением, да только вздыхали печально на сквозняке – прямо в открытую, но всегда безмолвную Форточку. Шторы и Форточка дружили между собой. Они чаще всего скептически помалкивали, остерегались проговориться, о чём размышляли часами, не надеясь на понимание окружающих. Кухонный Стол тоже имел особый взгляд на обозначенную проблему. Он лучше других был осведомлён насчёт того, что находится внутри Холодильника, чем тот живёт и распоряжается, обнаруживая свои запасы по праздникам, когда на Стол приходится выставлять всё лучшее. Только и Стол не любил высказываться откровенно – кому интересно, пусть полюбуется сам, каково нутро у Холодильника, а уж потом… Так что утверждать что-то категорически ни Шторы, ни Форточка, ни тем более, Стол не взялись. Да и остальные колебались… Время шло. Кухонное Общество каждый день переживало всё новые переживания, и проблемы этого треугольника давно бы отошли в тень, сменились следующими, если бы не… Если бы не габариты этих героев.
Действительно, что за проблемы у Раковины, Ящика для Овощей, у Мясорубки – и даже у Кухонного Комбайна, например? Разумеется, не те, что у Холодильника. И откуда у них возьмутся такие… большие чувства?
А чувства… Чувства заводили Холодильник в тупик.
Он с утра до вечера смотрел в окно – чуть не упирался в стекло! – чтобы отвлечься от навязчивых мыслей. Не помогало. Избавиться от неясных предчувствий он не мог. Тем главным, что не давало ему покоя, чего наверняка не знал никто из Кухонного Гарнитура и вообще из Кухонного Общества, на этот раз было вот что: совсем недавно ему на глаза попался… что бы вы думали? – паспорт Кухонной Плиты. Нет, такого удара он не ожидал. По документу выходило, что она ровно в два раза старше его! Кто б такое сказал, на неё-то глядя, на такую свеженькую пышечку? Не может быть, чтобы она сама не знала своего истинного возраста. А как угождает, как старается ему понравиться – опытная, видно… Ему-то казалось, что она искренне, от жаркого сердца… Обольстительница престарелая!
Или не так… Что-то тут не так…
Конечно, Морозилочка достаточно молодо выглядит, да и лет на пять его моложе, вот и не навязывается попросту, держится горделиво, знает себе цену… Но души в ней маловато, это точно, хотя духовные устремления у них обоих – холод, что очень важно…
Вот незадача! Опять одно и то же: кому из них отдать сердце? Выбрать не мог никак, поэтому решил опять потянуть немного; приучил себя отвлекаться: то рекламу по Кухонному Радио послушает (что там новенького расскажут о современной Бытовой Технике?), то примется всю свою родню вспоминать (от десятого колена), то снова в окошко засмотрится.
За окном-то много чего происходило.
Кухонное окно выходило на проезжую часть улицы. Машины и автобусы сновали без остановки то туда, то сюда… И куда их несёт? Вот по свежевыпавшему снегу пролегли два следа от шин двух легковых машин, «застрявших в пробке»; одна без другой трогаться не хочет… Вот два воздушных шара взмывают в небо, один за другим увивается… Вот два воробья сели прямо на подоконник и стучат клювами в стекло…
Что только в голову не лезет – свихнёшься ещё! Лето, осень, зима, весна… И опять – лето? Годы идут, а он – всё одинок, всё не решается сделать выбор…
Годы и в самом деле, шли, оставляя все меньше надежд про запас. А думы – всё о том же... беспорядке вещей... Холодильник переживал не на шутку, что стареет, что сдаёт… Стал со скрипом открываться днём, не находил покоя к вечеру, гораздо хуже спал по ночам. Годы не щадили и обеих дам его сердца, но они оказались всё-таки более стойкими: Морозильная Камера спасалась тем, что всё больше внимания уделяла уходу за собой. А Кухонная Плита закалилась в работе. Она трудилась без продыху, доставалось ей «по первое число»; иногда от усталости забывала, что готовила вчера или только что. Да что труд? Эка невидаль... Кухонная Плита по натуре была однолюбка и переделаться не могла. Жаль, Холодильник не ценит её пыл, жар, отзывчивость, способность поддерживать тепло домашнего очага… А если честно, другого жениха взять негде, как было, так и осталось! Что собой представляют прочие ухажёры – смешно подумать... Да и где они спрятались? Стоит ли вообще вспоминать, кого она встречала раньше? Одни прощелыги юркие да хапуги неповоротливые попадались...
Бедняжка Кухонная Плита, обливаясь потом, продолжая своё горячее дело, всегда помнила, что общественное мнение, сложившееся против неё в первое время, таким же и осталось. Эх, Холодильник-Холодильник... Разве можно сравнить нагрузки, выпадающие на её долю, с теми, которые «принимает на себя» эта ленивица Морозильная Камера? Тут приходится беспрерывно крутиться, а та стоит как гора, ухмыляется и ждёт, когда ещё (!) до неё очередь дойдет, а вперёд побеспокоят Холодильник; вот то-то… Обидно!
Кухонная Плита понимала, что Морозильную Камеру даже вечный холод не исправит: как была эгоисткой, так ею и останется.
Так Кухонная Плита и размышляла в положенные часы отдыха... Но что менялось? И Холодильнику было ничуть не легче; он чувствовал себя всё хуже, особенно по вечерам.
И однажды...
После нескольких бессонных ночей, его с самого утра мутило, день – кое-как, уснул с трудом… Ночью внезапно почувствовал, что ломается, разрушается, что агрегат не выдерживает мысленной (или бессмысленной?) нагрузки, а остановить процесс не мог. Понял, что приближается срыв – стал волноваться сильнее, опасаясь за внутреннее состояние, и тут пошло: фреоновая система начала расшатываться, и Холодильник прямо бросило в дрожь. Озноб! Его трясло, он содрогался всем корпусом – не припоминал, чтобы так долго не отпускало. Как бы не инфаркт!
Больные Холодильники никому не нужны...
Всё, дождался… Самооттаивающий испаритель вышел из строя и началась неконтролируемая разморозка: лёд на испарителе стал таять, и Холодильник заплакал настоящими мужскими слезами. Слезы не прекращались, а струйками воды стекались в поддон и вскоре переполнили его. На полу вокруг Холодильника разлилась большая лужа.
– Может, утром кто-то… обратит внимание на мою беду и окажет помощь, но будет поздно… – вяло соображал Холодильник, изнемогая от потери сил и теряя сознание.
Что касается Морозильной Камеры, так она тоже поздно заснула сегодня – почему-то долго включалась и выключалась, поддерживая режим. Вдруг проснулась посреди ночи: что-то слишком потеплело, и собственный режим ни при чём! Она с тревогой посматривала сквозь ночную темноту на безалаберную Кухонную Плиту: неужели забыла выключить духовку? Оказывается, нет… Ну, ладно… Морозильная Камера задремала дальше и лениво перебирала мысли о Кухонной Плите: «Пусть себе накаляется и распыляется – ей всё на пользу идёт. Вон как прёт, как кашеварит! Но в Холодильник-то влюблена, по самые конфорки, вообразила, что неотразима. И как бы её… остепенить и урезонить? Право же, надо знать своё место в обществе!»
Не следует будоражить себя посреди ночи – и Морозильная Камера попробовала уснуть снова, но не смогла, потому что скорее почувствовала, чем заметила: с Холодильником происходит что-то худое. И то – видать, подкачал! Да, не только у неё самой бывают нелады с режимом, а и у Холодильника… «Гляди-ка, я-то по наивности думала, что он ещё крепок. Да, возраст у него солидный, как бы не сломался, а то придётся нести двойную нагрузку, взять под свою опеку его продукты. Нет, это слишком большой удар для здоровья, а мне рекомендовано совершенно другое: стабильность и покой… Что же делать? Вот незадача… – Морозильная Камера глубоко зевнула. – Ну, если сломается, возьму ненадолго часть его продуктов, но ведь не навсегда же и не сию секунду! Не стоит переживать зря, это не моя проблема. В любом случае, все неприятности следует принимать по мере поступления и в “замороженном” виде – таков закон Северного Выживания. Придумали тоже: то им – северное родство, то – духовное родство! Делать им нечего... Одним духом жив не будешь – верно сказано, а родством – посмотрим!» Морозильная Камера успокоилась и решила, что пока суть да дело, не мешает вздремнуть – и ей это удалось.
Лужа вокруг Холодильника всё увеличивалась в размерах, а дрожь переходила в мелкую тряску; мотор вот-вот остановится...
…В этот день Кухонная Плита очень устала, и всё потому что горькие мысли о неудавшейся личной жизни мешали сосредоточиться; было так гадко на душе, что она даже стала подумывать: не испортят ли её личные переживания вкус приготовляемой пищи, в данном случае, плова с бараниной? Уж плов-то у неё всегда получался безукоризненно. Хоть бы не пригорел теперь от нерегулируемых перепадов температуры!
Да, не о себе подумала, а о других…
Даже когда плов был готов, не могла остыть и успокоиться до самого вечера. И на что оставалось надеяться? Уснула с трудом, спала урывками... Вдруг среди ночи проснулась как по тревоге. Что? Где? С кем? Она зажгла свой сигнальный огонёк, служащий для освещения духовки, и обмерла: Холодильник – сам не свой. Глянула и увидела, что он просто истекает. Плита давненько стала примечать, что Холодильник часто теряет душевное равновесие, а сейчас… Вот тебе и раз!
Тут Кухонная Плита поняла, что упускала из виду все эти годы: Холодильнику не хватает тепла в этом Кухонном мире – и вот итог!
Она решила действовать по принципу: клин клином вышибают. Проворно включила все свои конфорки и духовку, направила их тепло на Холодильник. Ух, что-то жарковато!
На кухне становилось жарко по-настоящему, и первыми это почувствовали изнеженные Кухонные Полки, до которых тепло дошло моментально. Они сразу проснулись. Шторы пробудились следом и тут же отдёрнулись «от греха подальше», затрепетав в ожидании. Постоянно бодрствующая Кухонная Форточка не знала, оставаться закрытой или распахнуться для неожиданных новостей. Она решила никак не реагировать на происходящее – на всякий случай: ночь, темнота, неизвестность... Кухонные Полки принялись изо всех сил таращиться в разные стороны, чтобы не пропустить важные новости.
Понять происходящее было нелегко, и привыкшие быть в курсе событий Полки принялись перешёптываться между собой:
Полки принялись перешёптываться между собой:
– Ага, что-то случилось, что-то не так, но что – непонятно!
Непонятно? Ну и что? А вы всегда всё правильно понимали? Это не ваше дело; и вообще – чужой секрет, ну и пусть всё происходит на виду, хотя и в темноте! Но если интересно, смотрите, как поступают, когда любят по-настоящему: никакого тепла не жалеют, все секреты раскрывают да не вам, настырные кумушки, а любимым. Ясно?
Кухонным Полкам было ничего не ясно, но они не слишком-то расстроились: подумаешь, дело большое! Через полчаса… Нет, через час… Через час лужи на полу возле Холодильника уже не было: он пришёл в себя, восстановился психологически, набрался сил, возобновил снежный покров испарителя. Холодильник поправился! Он смущёно улыбался Кухонной Плите, а та была готова… ну, и так понятно, на что. Они долго смотрели друг на друга – так смотрят те, кому интересно быть рядом, понимать друг друга с одного взгляда, идти в одном и том же направлении, даже стоя на месте...
Любопытным Кухонным Полкам всё-таки хотелось понять хоть что-нибудь, ведь всё происходило вопреки их расчётам. Они начали громко шушукаться и разбудили соседей. Те же, узнав о случившемся, стали переживать вслух о дальнейшей судьбе Холодильника и Кухонной Плиты. Особенно близко к сердцу приняла это событие Микроволновая Печка. А как же! Кухонная Плита была её старшей двоюродной сестрой, искренне доверяла сердечные тайны, и кроме того, безотказно делилась своим многолетним опытом и редкими рецептами приготовления разнообразных блюд. Микроволновая Печка, убедившись, что все неприятности позади, поняла главное: вопрос о соединении влюбленных, давно «висевший» в воздухе, разрешился, и незачем тянуть дальше! Она сама чуть не растаяла – только от умиления.
А остальные... Выслушав соображения взволнованных соседей, Кухонные Полки пересмотрели свои прежние взгляды.
– Ура!!! – закричали они. – Да здравствует наш Холодильник! Да здравствует Кухонная Плита! Да здравствует взаимопомощь! Да здравствует Домашняя Техника!
Громкие крики разбудили тех, кто ещё спал. Нехотя проснулся неутомимый вождь прогресса Кухонный Комбайн, никогда не простаивающий без дела. День напролёт он работал во всю мощь, потому и любил поспать подолгу. Этой ночью (вот ведь ночка выдалась!) спал плоховато и, проснувшись, принялся ворчать, что разбудили напрасно. Когда же понял...
– Пусть Техника, конечно, здравствует… – произнес он, неловко подражая представительному докладчику, которого недавно показывали по Кухонному Телевизору. – Не мне судить, но я как предпоследнее слово Бытовой Техники в этом доме хочу огласить свою мысль. Предварительно уточняю: последнее достижение мысли – Видеоплеер, но о нём разговора нет. Разговор идёт о другом: на моих глазах произошло Кухонное чудо. Это подстроить невозможно, этому научить нельзя, нельзя и запрограммировать. Чудо заключается… как раз не в достижении науки и техники, что следовало бы по логике вещей, а в проявлении бескорыстия по первому зову сердца. Преклоняюсь перед Кухонной Плитой, ибо она совершила поступок. который можно поставить всем нам в назидание, а остальное – уже не так важно!
Наверное, остальное действительно было не столь важно.
Холодильник и Кухонная Плита смотрели и смотрели друг на друга, как никогда никто ни на кого ещё не смотрел...
Даже Морозильная Камера, «проснувшаяся» позже всех, кажется, поняла кое-что, однако… решила считать своё личное понимание исключением из общих правил и законов Северного Выживания. На том и хорошо бы поставить точку.
Ну, чего в домашнем кругу не случается? Разве только того, что происходит и за кухонным окном?
А на бесстыжую Кухонную Плиту, да и на этот… вышедший в тираж Холодильник госпожа Морозильная Камера с тех пор глядеть не могла: чужое счастье глаза колет! Колет? Нет, вы неправильно подумали, дело совершенно в другом: что у современной Морозильной Камеры может быть общего с устаревшим Холодильником? Кстати, недавно промелькнуло сообщение в эфире Кухонного Радио: фирма «Семь звезд» готовит к выпуску суперновый Холодильник, трёхкамерный, усовершенствованный, широкого применения, с камерой пролонгированной заморозки. Неплохо бы встретиться с таким; он, по крайней мере, если уж и не совсем ровня, то неплохая партия – по всем статьям.
А чем мороз не шутит? И для чего себя так низко ценить? Не забывайте: главное в Бытовой Технике – продвинутость и функциональность!

Зонтик проживал в прихожей, в уютном закутке, вместе с Плащом и Рюкзаком. Все втроём подружились когда-то в походе, да так и не расстались после. А что? Походно-полевые условия как нельзя лучше подходят для выбора друзей. И правда, компания подобралась подходящая, по крайней мере, не грызлись друг с другом, как семейства других соседей, живущих рядом, например, Ботинки или Кроссовки. Оба Ботинка и между собой редко договаривались, хотя, как ни странно, они считались самой хорошей парой среди обитателей прихожей.
– И что в них, спрашивается, хорошего, если столько грязи с улицы нанесли, а убираться за собой не желают? – удивлялся Зонтик, уважающий тишину, чистоту и порядок. – Пусть бы тогда дружили с Веником и Шваброй, да умывались бы раз в неделю, раз такими «хорошими» себя выставляют!
– Что до Веника и Швабры – то за ними надо бежать на кухню или в ванную, а это не так уж близко, – заявляли Ботинки, избалованные вниманием Обувной Щётки, для которой, наоборот, грязь на улице была кстати: чем сильнее Ботинки испачкаются, тем больше будут нуждаться в прикосновении её щетинок. А уж ей-то только того и надо – то-то она с утра до ночи была занята исключительно тем, что поджидала их на пороге, особенно в непогоду, вот какая настырная!
– Необъективно все рассуждают, – фыркнул Плащ. – Вот я – привык сам о себе заботиться. Сам к себе отношусь как к универсальному виду одежды, но не делаю из этого рекламы и на Одёжную Щетку не пеняю, и уж тем более не пользуюсь её благосклонностью ко мне… ещё и так открыто. Совесть имею.
– Совершенно согласен с Плащом и Зонтиком, – вступил в дискуссию Рюкзак, расстёгивая ремешки и ослабляя боковые стяжки, в очередной раз приступая к пересмотру своего содержимого. Он тоже считал себя универсальным до какой-то степени. – Как меня судьба ни испытывает, чего ни подсовывает, стараюсь там же от этого избавляться, а домой мусор не приносить – лишнее на улице и вытряхиваю. Потому и компания наша подходящая, что поддерживаем друг друга в главном.
Ну, о том, что старается избавляться от лишнего, Рюкзак сильно преувеличивал: его бока постоянно раздувались от чего-нибудь «новенького» или «интересненького», что мусором назвать нельзя, но и чем-то другим – вряд ли. Но в общем, привычки Рюкзака никому не мешали. А грязь-то… Грязно или чисто – виднее всего было Коврику, лежащему на самом бойком месте, на пороге прихожей. Он косо посматривал на Ботинки и всё их крикливое семейство, благосклонно – на Швабру с Веником и уж не жалел добрых слов для Зонтика и его друзей, почти не причинявших ему хлопот. Плащ отличался скрупулезностью и педантичностью, Рюкзак – некоторой расхлябанностью, а Зонтик... Зонтик был просто… хорошо воспитан. Ему нравилось жить со всеми в мире, и если уж он осуждал кого, то исключительно за дело (например, эти Кроссовки), а высказывался резко потому, что жалко смотреть, как они обижают Коврик.
Да, среди обитателей прихожей Зонтик считался самым смирным и справедливым. Он был хорошего роду-племени, практичной, глубокой тёмно-серой расцветки, с плотной и крепкой ручкой; не привлекал к себе особого внимания, соблюдал приличия, придерживался порядка – да это и лучше, чем протестовать или выражать недовольство по любому поводу. Одно было нехорошо для Зонтика: все знали, что он отличался покладистым характером, и пользовались этим.
Насколько же выгодным оказывался Зонтик для кого-то: то раскрывался, то складывался, то раскрывался опять – делал всё, как полагается, чтобы оправдать свое предназначение.
Оправдать? Вот с этим можно поспорить, потому что оправдывать свое предназначение можно по-разному. Да и каково это предназначение? Неужели именно и только такое? Но позвольте спросить: каким оно может быть, если лично для себя Зонтику ничего не нужно, кроме не самой скверной погоды и любимого места в прихожей, а всем остальным требуются его исключительные качества, которых у самих не хватает?! Хорошо выполняет свои функции – так вернее сказать. А предназначение… Зонтику было незачем вдаваться в глубокие рассуждения на эту тему; просто он был рад услужить друзьям и помочь остальным. Внутренне он стремился к движению, к чему-то новому и неизвестному. Ведь невозможно всю жизнь оставаться неподвижно-непоколебимым чучелом, как, например, Лосиные Рога, висевшие на стенке прихожей рядом с Ружьём! Да и неинтересно… А само Ружьё, которое сокрушается о том, что давненько не стреляло… Ну-ка, ну-ка... Рога-то ни к кому никогда не подстраивались, но где теперь тот лось? Разве что Ружью кое-что известно… Нет, довольно! Зонтику было совсем не интересно рассуждать о недостатках или проблемах соседей, а дело было в его мировоззрении: жить только собой, только для себя – скучно!
Так Зонтик и размышлял, никого не посвящая в свои мысли. А иногда с грустью думал о том, что ценят-то его, ценят, а главного не знают: его души... Никому и невдомёк, что она у него есть. Нет, друзья, Плащ и Рюкзак, крепко уважали его и в обиду не давали – вступались горой, особенно когда видели, что Зонтику совсем туго приходится. Всё бы хорошо, но по душам они втроём почти не разговаривали, а Зонтику так хотелось поделиться сокровенным, да боялся, что не поймут. Поэтому стоит ли говорить, как он обрадовался однажды, поймав на себе изучающий взгляд изящной розовой Шляпки – с самого верхнего стеллажа прихожей! Подумал, что это случайно, но она снова взглянула на него и улыбнулась именно ему! У Зонтика дрогнуло сердце: таких сильных чувств он ещё не испытывал… Может, она заметила в нём то сокровенное и важное, что не сумели разглядеть другие? Зонтик предался приятным размышлениям...
О чём он размышлял на этот раз, не догадался никто.
Так уж никто? С того дня Зонтик только и мечтал о том, чтобы милая Шляпка как можно чаще смотрела на него, потом они познакомятся поближе, а когда-нибудь он откроет ей душу, и она её поймет! А вся прихожая оценила ситуацию по-своему, по-житейски, и вскоре заговорили, что Зонтик по уши влюбился – и в кого бы? – в фетровую Шляпку, известную кокетку и балаболку. Зачем ему сие? Ведь давно известно: Шляпка – ветрена, непостоянна, только и знает, что другим голову морочить, считает это «красивой жизнью». Как только потеплело, эту воображалу-Шляпку никаким арканом дома удержать было нельзя: не успеет утром солнышко выглянуть – она тут же и упорхнёт на какие-то пикники и пляжи. И Зонтику ли, такому умному и степенному, связываться с пустышкой? Подумаешь, улыбнулась ему два раза, а может, вовсе и не ему, а он-то…
Нет, осуждать его незачем, а пожалеть стоило, и вот почему ещё. Всем, абсолютно всем известно, что прошлой весной Шляпка завела близкое знакомство с Шарфиком и Беретом – да-да! – все правильно поняли: одновременно. И чего не завести, когда все трое… Не хочется разбирать «по косточкам» чужое воспитание, но даже Лосиные Рога не удивились, когда они втроём, Шляпка, Шарфик и Берет, перебрались из-под их опеки на верхнюю полку стеллажа – подальше с глаз.
А уж Лосиным Рогам эта публика хорошо известна!
Ружьё только ухмыльнулось без комментариев: много шума из ничего. Ну, у высокомерного Ружья свои резоны, а остальные переживать за соседей любят. Обе Щётки, Обувная и Одёжная, – не лыком шиты, хотя и не так дружны, но словоохотливы – догадались сразу же и принялись шушукаться: «Доверчивый и услужливый Зонтик расчувствовался некстати и позволил такой безделушке увлечь себя! Поначалу просто смотрел на неё – ну и пусть бы. Потом несколько раз прогулялся с ней – понять его можно. А дальше – просто с утра до ночи только и делает, что слоняется за ней по пятам. К чему это? Есть же пределы!»
Вот уж воистину: любовь к Шляпке зла…
– Ах, Зонтик! И на кого свои чувства тратит? – морщился Плащ, доверительно беседуя с Рюкзаком и оглядываясь по сторонам, не слышит ли кто. – Сегодня проснулся в полдень, гляжу, на его месте только чехол и остался. Думаю: куда в такую жару понесло? Смотрю, и Шляпки нет, значит, то ли с собой увела, то ли сам за ней увязался.
– Конечно, дружище, так оно и есть, – тяжело задышал Рюкзак, волнуясь и расстегивая верхнюю молнию. Среднее его отделение так и раздувалось от обилия необходимых в быту вещей: мотков проволоки, спичечных коробков, баночек с гвоздями, кусочков резины и кожи, обрезков цветного металла. Все эти предметы были подобранны недавно по случаю и ожидали дальнейших распоряжений. – Не хочу лезть в чужие дела, от своих пухну, как видишь. Но хозяйство не бросишь, никуда от него не денешься… Да, бедолага наш Зонтик... Уж я сроднился с ним, сроднился настолько, что смотреть на всё это не могу, прямо заплачу. Веришь ли? – все больше расходился сердобольный Рюкзак.
– Да потише ты… – остановил его Плащ. – Я-то верю, а что делать? И я тоже… Каюсь, сначала думал: пусть себе поухаживает за ней. По себе знаю, что слегка увлечься не вредно… – Сам же кинул осторожный взгляд на Одежную Щётку, так и засветившуюся радостью от этого взгляда. Одежную Щётку Плащ привлекал тем, что забот с ним немного, но Плащу она казалась слишком прилипчивой. Он уже имел печальный опыт по части прекрасного пола – иногда вспоминал о строгой и аккуратной Юбочке, за которой пытался ухаживать совсем недавно. И виделись-то всего два раза, десяти слов друг другу не сказали, но... В институте Благородных Юбок узнали об этом, и Юбочке всыпали нагоняй: не тот кавалер! Она дала Плащу отставку, он разобиделся на неё, да об остальных дамах стал подумывать с неприязнью. – И надо же, наш доверчивый Зонтик «вляпался»! Гляди-ка, чехол свой бросил и за «фиговой безделкой» «усвистел»!
– И правда, даже о чехле забыл... Мне-то больше всего обидно потому, что – кто она такая? – не унимался Рюкзак, распираемый изнутри. – О тебе и твоей даме молчу – там случилось по-другому: указание сверху! А тут? Шляпка и Шляпка… Была б стоящая, так никакого чехла не жалко! А то – ветреная болтушка, комедиантка, пустышка недалёкая! Ни в чём не разбирается, всё переводит на шуточки – недаром бантик на боку! А уж этот Шарфик напыщенный, фигляр безмозглый… И Берет брюзгливый, да к тому же облезлый… – Рюкзак высказал всё свое возмущение и, потратив силы, неуклюже оступился, потревожив Коврик. Плащ хотел присесть рядом, но...
– Эй! – вздрогнул Коврик спросонья. – С каких это пор на меня наваливаются какие-то… Ах, это вы, ребятушки? Вздремнул, не ожидал… У вас что-то случилось?
– Прости, старина, – извинился Плащ, оттаскивая за лямку с прохода тяжелый Рюкзак. – Это мы балуемся под настроение.
– Ладно-ладно, я и сам не прочь побаловаться, да приходится перед всеми стелиться. – Коврик вздрагивал, стряхивая песок в сторону. – Мне не до баловства: скоро жильцы толпой возвращаться станут, хочу поспать пару часиков, пока дают.
Коврик зевнул и снова сладко задремал. Рюкзак долго сопел и возмущался по-тихому, а Плащ помалкивал; он предполагал худшее, но «накаркать» не хотел. Да что «каркать»? И без «карканья» всё прояснилось». Целый день прошёл в ожидании – никогда ещё Зонтик так надолго не отлучался. Ясно, эта безобразница потащила бедолагу в «зону активности»… К вечеру Плащ не выдержал и решил пойти поискать друга, только где? Но, тем не менее, приосанился, расправил складки, застегнулся на все пуговицы, приготовился к выходу. И тут... Тут в дверях появилась взволнованная Шляпка, и, не задерживаясь, проскользнула на своё облюбованное местечко, поближе к Шарфу и Берету. Вот как! А где же Зонтик? Рюкзак не успел отпустить ни одной колкости по поводу скорости перемещения Шляпки, потому что повод наметился другой – Зонтик! И это – Зонтик? Зонтик робко отворил дверь и остановился на пороге у самого Коврика, наверное, для того, чтобы все смогли полюбоваться его новым обликом. Как полюбоваться? А так… Рюкзаку пришлось «полюбоваться» первым, потому что Плащ в это время складывал чехол от Зонтика, собираясь запихнуть в карман, чтобы не потерять на улице.
– Батюшки-светы... Она соблазнила его, – прошептал Рюкзак в самый капюшон Плащу. – Ты только глянь!
Плащ, взглянув на пришедшего с прогулки друга, так и застыл вместе с чехлом, просто оцепенел: Зонтик полностью поменял свою расцветку! Или нет… Может, это был чужой Зонтик, а не тот, кого они знали столько лет? Плащу, который устоял бы перед любой непогодой, на этот раз стало нехорошо.
– Ты ли это? – спросил он, оглядывая Зонтик со всех сторон.
– Конечно, – отвечал Зонтик, смело проходя вперёд игривой походкой (откуда научился?), небрежно переступив через Коврик. – А где мой чехол?
– Твой? С чего ты взял, что у тебя есть чехол? – обескуражил его почти догадавшийся обо всём Плащ.
– Как – с чего? У меня всегда был чехол, не то что у некоторых… – промолвил Зонтик, не находя свой чехол, туго свёрнутый и уложенный в карман Плаща. Зонтик сделал вид, что расстроился. Или вправду расстроился?
– Ага, хочешь в чехол спрятаться – от стыда, чтобы никто не увидел, во что… – Плащ подбирал слова, – во что ты превратился, связавшись…
– Да успокойтесь вы, потише, потише, – остановил обоих Рюкзак, опасаясь, как бы не возмутилось общее спокойствие. – Нечего комедию ломать… на радость… Ружьям с Патронами. Угомонитесь оба!
Ружьё, несомненно, услышало, о чём речь, но решило давно, что не стоит обращать внимание на какие-то Зонтики, Шляпки, Рюкзаки. Патроны же забеспокоились совсем по другой причине: им показалось, что кто-то собирается на охоту… Вот если бы и в самом деле – на охоту! Нет, охотой не пахло, а страсти вскипали. Рюкзак раздувался, Плащ шелестел подкладкой, продолжая укорять Зонтик, и тому становилось всё более неловко, несмотря на охвативший его азарт. Ведь раньше он никогда не стремился быть центром внимания, тем более – нездорового интереса: ишь, как публика встрепенулась! Ой, как всё неприятно...
Зонтик не раскаивался, хотя чувствовал приближение грозы. Анализируя происходящее, повторял про себя: «Не устоял!» Он ни в коей мере не собирался «выпячиваться», но... Шляпка увлекла его, так закрутила, так затмила собой всё вокруг, что он только и делал, что следовал за ней и уступал её желаниям: какое-то шоу, вернисаж, кабаре… Да – произошло нечто из ряда вон выходящее: сегодня по прихоти Шляпки Зонтик поменял имидж – она того добивалась, причём чрезвычайно настойчиво. Начала исподтишка и незаметно подвела Зонтик к мысли о несоответствии его внешности и внутреннего содержания.
Уже на обратной дороге из кабаре, где Шляпка, как всегда, имела головокружительный успех, она, изредка бросая недовольные взгляды на сурового спутника, который угрюмо плелся вслед за ней, выговаривала без стеснения:
– Когда я нахожусь в твоём обществе, все думают, что ты – мой строгий дядюшка или преподаватель юриспруденции, словом, «протокол ходячий». Молодец, что в чехол не нарядился, а то – хоть бегом от тебя беги!
– Но что же мне делать? – вопрошал он робко.
– Что? Хочешь знать правду, чего тебе по-настоящему не хватает?
– Хочу, – затаив дыхание, отвечал Зонтик.
– Индивидуальности.
– Вот как? По… Почему?
– Почему – не знаю. Или оригинальности. Ты вечно скован и зажат, даже когда раскрываешься, как ты считаешь, полностью. Раскрепощаться до конца не умеешь! – Шляпка поправила милый бантик, чуть-чуть съехавший набок во время этой горячей тирады. Только вдали от дома она могла уверенно отстаивать свои принципиальные позиции. Дома это сделать очень сложно (по соседству с Ружьём-то), а на воле – вполне! Сменить одну прихожую на другую она не решалась...
– Да я… – Зонтик не предполагал, что его классические пружинки, так легко подчиняющиеся каждому его движению, могут показаться кому-то зажатыми, о чём и заявил Шляпке прямо и без обиняков.
– Ну что ты, друг мой, – обворожительно улыбнулась Шляпка. – Ведь я не о том. С пружинками у тебя всё в порядке, не то, что… Позволь быть откровенной – не то, что у бесхребетного Шарфика! Понимаешь? Зато у него есть другое, не менее важное!
– И что же это? – тихо спросил Зонтик, которого объяснения Шляпки задели за живое: чтоб какой-то Шарфик…
– Что? – Шляпка звонко засмеялась и задела ручку Зонтика краешком своих трепетных нежно-розовых полей, чем привела его в крайнее смущение. – Он стремится быть модным, элегантным, неповторимым, ценит качество своей пряжи, держит марку фирмы. А ещё у него есть шарм!
– Шарф и шарм… Есть шарм? А… а у меня – нет? – ещё больше стушевался Зонтик, чувствуя, что она в чём-то права. – Но где же выход, как мне быть?
– Право слово, ты – как будто из другого мира. В наше время имидж изменить ничего не стоит. Скажи, а что ты любишь больше: зиму или лето, то есть солнце, дождь, град…
– Спрашиваешь… – Зонтик обрадовался, когда речь пошла о погоде, ведь это – его излюбленна тема. – Конечно, лучше подставлять себя солнечным лучам, чем снегу и дождю.
– Ну, вот и славно. Поздравляю! Я так и думала, что твой разум возьмёт верх над ханжеством. В тебе есть здравое начало.
– И в чём это будет выражаться непосредственно? Этот «верх над ханжеством»?
– А в том, что мы сейчас зайдем в салон к моей лучшей приятельнице Кисточке, и она придаст тебе новый, светлый и солнечный, облик. У неё – свои профессиональные секреты, огромный опыт, и ей можно доверять вполне. Тебе обязательно понравится! – засмеялась очаровательная Шляпка, зная, какое впечатление может произвести своим смехом на Зонтик.
Зонтик и подумал: а не этой ли приятельнице Шляпка обязана тем, что прекрасно выглядит? Да разве она признается… А все эти напыщенные болваны в кабаре с неё глаз не спускали, и все расфуфырены, надуты, как индюки, чтоб их! В этот момент Шляпка и Зонтик как раз проходили мимо какого-то популярного заведения, находившегося в полуподвале высотного дома. Над входом маячила вызывающе яркая реклама, начинавшаяся словами «Только у нас в салоне…» – и Шляпка воскликнула:
– Постой, нам как раз сюда и надо!
Или это Шляпка так подстроила? Словом, через минуту Зонтик оказался в «чудодейственных руках» Кисточки, которая, казалось, дожидалась именно их. Она выслушала пожелания Шляпки, и тотчас же приступила к воплощению ее идеи, совершенно не интересуясь мнением Зонтика, словно не замечая его слабых протестов. А идея-то Шляпки была проста, да и Кисточке, видно, не впервые приходилось «воплощать» подобные идеи! Зонтику казалось, что Кисточка едва касается его; её прикосновения ласкали его суровую ткань, щедро делясь и с тканью, и даже с его мыслями цветами радуги. «Что со мной происходит?» – вяло думал он, покоряясь действиям Кисточки и невольно погружаясь в водоворот приятных мыслей.
Когда всё закончилось, и преобразившейся во всех отношениях Зонтик увидел в зеркале своё отражение, он узнал себя только по росту да по форме выгнутой ручки: унылая черно-серая выцветшая местами непромокаемая ткань обновилась полностью. Она стала не менее плотной, но более приятной на ощупь. А расцветка! Основной фон ткани стал сине-голубым, словно небо одарило её своим цветом, а солнце озарило яркими лучами; по краю купола – зеленая кайма, переходящая в заросли травы и растений, по синему небу – птицы, стрекозы, бабочки…
Неужели за полчаса можно измениться до неузнаваемости?
– Ну, как? – спросили его проказницы-подружки, одобрительно пересмеиваясь. – Признавайся, нравится?
От изумления Зонтик не нашёлся что ответить, забыл и поблагодарить… По дороге домой – а домой ли они идут? – приказывал себе оставаться спокойным и подумывал о том, что теперь-то, в любом случае, невзрачный чехол вряд ли подойдет ему – да так ли он нужен?
– Давай поторапливайся, спешу, есть небольшое дело, – подгоняла его Шляпка. – А вообще радуйся: теперь с тобой будет не стыдно появиться в приличном обществе. Сейчас-то уже поздно, никуда не успеем, а вот послезавтра у моего знакомого дизайнера состоится презентация клуба в Палас-отеле; надеюсь, пришлёт мне парочку приглашений, тогда мы с тобой… Да, через месяц-другой можем отправиться в морской круиз!
Она ещё что-то мило щебетала, дотрагиваясь до золотистых бабочек, облепивших цветок ромашки на сложенном куполе Зонтика, и он попросту разомлел от нахлынувших на него светлых и жарких чувств – того и гляди, сам в стрекозу обратится и к небу взлетит! Быть весёлым и нарядным, нравиться Шляпке – не в этом ли радость? Идти с ней рядом, быть ей ровней – это ли не счастье! Да, да! Какое-то седьмое чувство нашёптывало ему о том, что сожалеть о сделанном не стоит:
«Не огорчайся глубоко, прихожая – это только преддверье дома, твой дом – впереди; все ещё образуется, и ты поймешь, что твоя жизнь только началась!»
Да уж, не огорчайся! На улице-то хорошо, а что будет дома?
Дом, прихожая, соседи, друзья... Раздумья сдерживали шаг; тревога усилилась, когда подошли к дому, где в родной прихожей его ждал безжалостный суд друзей. Суд и судьи – вот чем заканчивается вызов судьбе. Суд был строгим – так Зонтику пришлось перенестись из мира мечты в реальность, в прихожую своей жизни. Он словно ушат воды на себя принял, стоя перед Зеркалом в роли подсудимого и слушая, как охает Рюкзак и что вещает строгий судья Плащ, потрясая перед ним его же чехлом:
– Сравни, кем был и чем стал! Во что обратился? – Плащ кидал гневные взгляды то на Зонтик, застывший в неудобной позе, то на Шляпку, якобы забывшую о недавней милой забаве, прикрывшуюся полями и уютно устроившуюся на верхнем стеллаже в обществе небрежно разлёгшегося Шарфика и расфранчённого Берета. Вся компания о чём-то страстно перешептывалась, якобы не обращая внимания на громкие причитания Плаща. – С кем связался, к кому прислушался? Эх, ты, а мы-то…
Зонтик тоже взглянул в сторону «треугольника» и отказывался понимать... Затем всмотрелся в Зеркало пристально – что-то неприятное шевельнулось внутри.
– Я ли это? – спросил Зонтик.
– Это – ты, не сомневайся, – улыбнулось чистосердечное Зеркало. – Это ты – сегодняшний. Неужели ты хотел бы, чтобы во мне отражался твой вчерашний день?
– Ты слышишь, Плащ? Зеркало не умеет лгать, – Зонтику захотелось приподняться в настроении, и он полностью раскрыл свой купол. – Или тебя интересует мой вчерашний день? Будь, что будет, но – сегодня!
Он снова обернулся к Шляпке – та все больше распускала свой очаровательный бантик в сторону Шарфика, едва замечая страдания бедняжки Зонтика. Берет противно морщился, мерзко хихикая при этом. Вот как... Подтолкнула к пропасти, оставила на краю, и тут же забыла… Нет, где же если не справедливость, то намёк на нее?! Зеркало только покачнулось в ответ, отражая внутреннее состояние обиженного напрочь Зонтика...
А Шляпка украдкой от соседствующих приятелей всё-таки поглядывала на Зонтик и улыбалась, радуясь, что её затея удалась. Зонтик же... Он сложил купол, затянулся потуже тесёмкой. Настроение упало до нуля.
– Ладно, дружище, успокойся, – принялся утешить его добряк Рюкзак, понимая ситуацию.
– Да уж, не стой как Эйфелева башня у всего Парижа на виду, – усмехнулся Плащ, нехотя переменив роль строгого судьи на участь истинного друга. Он видел, что пора прекращать препирания во избежание крупной ссоры, теребил вынутый из кармана и никому теперь не нужный чехол Зонтика. Плащ всё больше входил в положение друга – не перекрашиваться же ему по второму разу!
– Давай-ка сюда, – сказал Рюкзак, забирая чехол себе, – чтоб глаза не мозолил, засуну в самое дальнее отделение, где, помнится, Циркуль лежал.
– Циркуль? Припоминаю… И где тот Циркуль теперь? – медленно проговорил Плащ, поправляя капюшон, спросил просто так, чтобы разрядить напряжение. – Уж то-то он юлил и вертелся, всё ему смирно не жилось – да, наверное, не искал себе пикантных приключений, как некоторые.
– А может, искал, – усомнился Рюкзак, понимая уловку друга. – Всю подкладку мою пропорол, так наружу рвался. Когда и куда делся, не припомню. Пропал и – с концами. Нарушил мои планы насчёт перепланировки нашей прихожей… Слушайте, а я ведь запамятовал, у кого теперь все мои инструменты, которые я ещё до Циркуля таскал. Помню только, что молоток отдал кому-то сам – попросили, свёрла строители забрали, плоскогубцы – соседям ремонтировать чего-то нужно было… – Рюкзаку никак не удавалось расстаться с мыслью о порядке вещей. – А Циркуль и Транспортир, помнится, считали себя не только инструментами, но… «элитными приборами высшего применения» – во как! Затесались в общую «строительно-ремонтную» компанию, да, видно, не понравилось им соседство с шурупами и плоскогубцами – враз подевались куда-то. Ну, пусть их! – Рюкзак глубоко вздохнул. – Надоело мне тяжкое бремя нести, да привык по-хозяйски, чтоб всему найти применение… Вот снова ерунды какой-то насобирал…
– А зачем за всё хватаешься? Зачем Циркуль подобрал? Ведь обходился ты без него раньше! – покончив с осуждением Зонтика, Плащ, приучившийся не отступать от темы и до конца выкладывать свои мысли, начал в который раз вычитывать Рюкзак за его бестолковый характер. – Хоть и говоришь, что старое выбрасываешь, а сам в склад ненужных вещей превратился. Склад и порядок – не одно и то же. Бери пример с меня. Для меня самое главное – избавляться от случайных накоплений, а ты…
Зонтику был привычен их «бурчащий» разговор и почти всё равно, о чем болтали приятели, заботясь о практичности и экономичности, что ли. Наверное, все эти проволоки и свёрла того не стоили… Да и Циркуль какой-то, не говоря об остальном… Или они распинаются ради него? Ну что же… Хотя друзья и старались загладить неприятность, на душе у Зонтика становилось всё гаже и гаже; каждой спицей он чувствовал, что теряет душевное равновесие, которым втайне гордился.
...Благоразумный Коврик наблюдал за происходящим с сожалением, но вмешиваться не решался: пусть разбираются сами, лишь бы грязь в дом не тащили. Что же о чувствах – то они домашней чистоте не вредят. Конечно, о чистоте – у каждого своё понятие. А чувства…
Ну, хватит возмущаться, скоро спать, пора успокоиться всем!
Преобразившийся за один день Зонтик прислонился к удобному и молчаливому Дверному Косяку, оглянулся на Ружьё: «Оно может разрядиться хоть когда-нибудь – от избытка чувств, а я? Приходится терпеть у всех на виду; в чехол не спрячешься. И Шляпка так-таки не смотрит на меня… Ведь поверил ей, был на всё готов, а теперь у неё свои дела нашлись, мои дела её не интересуют... И для чего разыграла сегодняшний спектакль? Чтобы посмеяться надо мной вместе с этими… Шарфиком и Беретом? Морской круиз, говорила, презентация какая-то… А я… Уж я ли не укрывал её от непогоды? А друзья? Им-то всё представилось так, что я опустился… опустился до уровня… до уровня кабаре. Неужели не понимают? О горе горькое! Как жить дальше? Как… Как в этом мире мало ценится искренность и верность! Как, оказывается, мало мы все значим друг для друга… Как легко она отвернулась от меня… Как плохо мне, как страдает моя душа! Зачем вообще нужны чувства? Лучше, гораздо лучше быть бесчувственным…»
…Все уснули. Зонтику долго не спалось. Казалось, никогда раньше у него не было так скверно на душе. Конечно, в прихожей и прежде случались нешуточные неприятности, даже скандалы, но не с ним же, то есть совсем не касались его. Бессонница нагнетала всё более грустные мысли и чувства, и Зонтик сам себе становился не мил. Не уснуть никак… Другие-то спят хоть бы что! Оглядев прихожую при свете уличного фонаря, услужливо заглядывающего в маленькое окошечко, Зонтик всё больше расстраивался и наконец, не сдерживаясь, тихонечко заплакал – памятью о тысячах и миллионах капель дождя, скатившихся с его серого (когда-то!) купола…
Он понял: дальше так продолжаться не может – нельзя оставлять всё, как есть, а необходимо изменить в корне.
Да, надо менять свою жизнь, раз толчок к тому сделан! И только после этой мысли тяжко уснул, провалившись в память прошлого. Проснулся рано. Рюкзак мирно посапывал, вздымая и опуская правый бок, а Плащ, как обычно, мелко вздрагивал, досматривая предрассветный сон. Зонтик подумал: «Как же я привык к ним!» Но... Вспомнил: всё решено, надо действовать. Впредь следует жить не по велению чувств, а по разуму!
– Прощайте, дорогие друзья, – прошептал Зонтик, наклонившись и прикоснувшись к каждому из них с нежностью; затем затянул потуже тесёмку, служившую ему поясом. Обойдя Коврик, осторожно отворил входную дверь, чтобы не разбудить остальных. На бессовестную Шляпку, наверняка утопающую в мягких объятиях Шарфика, даже не взглянул, чтобы не травить рану. На пороге задержался на секунду, не оборачиваясь назад. – Прощайте, не поминайте лихом...
Уже рассвело, но день обещал быть пасмурным. Редкие прохожие выглядели полусонными, и только Зонтик бодро топал по переулочку и вскоре, обогнув квартал, вышел на трассу. Теперь – только вперёд! Интересно, куда же? Он шёл, не сбавляя шага, не оглядывался назад, старался не думать о прошлом, о вчерашнем, а целиком положился на судьбу. Вспомнил слова Зеркала: «Важно то, что есть сегодня!» Седьмое чувство опять нашёптывало что-то несуразное, и Зонтик с досадой отмахнулся от него… Остановился на троллейбусной остановке и не успел задуматься, куда податься, как вмиг подошел троллейбус.
– Вам куда? В аэропорт? – крикнул водитель, высунувшись в окошко.
– Мне… – Зонтику было всё равно куда, лишь бы подальше отсюда. – Да, в аэропорт!
Троллейбус был пуст. До аэропорта добрались без заминок; больше пассажиров не встретилось. Зонтику показалось, что он едет не в троллейбусе общего пользования, а в огромном автомобиле с личным водителем. Зонтик вышел на последней остановке; троллейбус тут же испарился, будто его и не было. Куда же дальше? Зонтик, помедлив, вошел в здание аэровокзала, пристроился в очередь за билетами в крайнюю кассу, где народу меньше. В толпе толкались бесцеремонно, но Зонтик этого почти не замечал. Ему оставалось всё меньше времени на решение вопроса: куда? Очередь подходила, но он так и не решил, куда. Вдруг вспомнил, что денег с собой не взял… А паспорт? И паспорт совершенно упустил из виду…
Значит, что же – зря стремился переменить жизнь?
Заспанная и неприветливая кассирша уже отсчитывала сдачу предыдущему пассажиру… В это время Зонтик почувствовал, что кто-то потянул его за тесёмку, неудобно стягивавшую сложенный купол. Он обернулся и узнал... Надо же! Знакомый силуэт, узнаваемые черты... Циркуль – да, это был тот самый Циркуль, пропавший совсем недавно из заднего кармана Рюкзака! Только вроде ростом выше стал... Откуда же он взялся здесь и в такую рань?
– Ты хотел куда-то улететь? – спросил Циркуль, загадочно улыбаясь всеми сверкающими винтиками и колёсиками.
– А в чём дело? – удивился Зонтик, туго соображая.
– В том, что у меня как раз имеется два билета на один интересный рейс.
– Интересный? – оживился Зонтик.
– Чрезвычайно интересный, – заверил его Циркуль, – и вдвойне интересный для того, кто решил полностью переменить свою жизнь!
– Вот это да! – воскликнул Зонтик и тут же обмяк: – А ведь я забыл дома деньги и паспорт…
– Да не нужны они нам! – обрадовал его Циркуль и потащил за собой прочь от касс, но не к стойкам регистрации авиарейсов, а на улицу. Возле здания аэровокзала скопилось несколько маршрутных такси, и одно из них тут же подкатило к ним.
– Садись, – пригласил Циркуль, – ехать всего полчаса.
– А куда едем-то? – заикнулся Зонтик, но ответа не дождался, потому что как только сели, его моментально потянуло в сон – плохо спал сегодня, вот и результат. И что Циркуль подумает?
Зонтик дремал рывками и проснулся, когда уже выехали за город. Незнакомая дорога… «Ни деревьев, ни кустарников. Какое-то чистое поле… Где мы?» – подумал он и почувствовал, что засыпает снова, но посмотрел в окно и увидел, что подъезжают к огромному полигону. Что это? Он окончательно стряхнул с себя сон, присмотрелся и разглядел в самом центре полигона стройный силуэт космической ракеты. Ого! А где же охрана? Где КПП, военные или…
Не успел ничего спросить, как Циркуль бросил водителю:
– Так, хорошо. Поворачиваем прямо к цели, едем к ракете, – Циркуль нетерпеливо вертелся и ёрзал, вздрагивая всеми суставами. Такси моментально свернуло на бетонное полотно полигона и понеслось к ракете.
Как только машина остановилась, Циркуль сказал Зонтику:
– Всё, приехали, хватит спать. Выходим!
Они вышли у самого трапа, поднимающегося ко входу в ракету, на борту которой было написано «Межпланетные перелёты», и только успели ступить на него, как трап сам въехал внутрь корабля. Зонтик едва успел уцепиться своей ручкой за какую-то перекладину, а Циркуль – за него, как створки двери захлопнулись, и их понесло на транспортёре в салон для пассажиров. «Таких неожиданных фортелей судьба ещё не выкидывала со мной – ну, если не считать… вчерашнего», – подумал Зонтик, когда они оказались в удобных креслах, к которым какая-то неведомая сила тут же пристёгнула их тройными ремнями безопасности. Других пассажиров не было.
– Пассажирам не подкидать свои места во время полёта! – прозвучал зычный голос невидимого командира корабля. – Выполнять только мои распоряжения! Внимание, стартуем!
Стартовали мгновенно. Зонтик ощутил всю силу перегрузки, ему стало немного не по себе, и чувство раскаяния зашевелилось в нём: а стоило ли убегать, уезжать и улетать от родного дома, от милой прихожей, от хороших друзей? Немного привыкнув к необычному состоянию души и тела, оглядел себя: он это или не он – такого цвета и… и где это он? Не снится ли?
– Послушай, приятель, – обратился он к Циркулю, который совершенно не волновался и всё время держался так, будто привык совершать подобные перелёты каждый день, да и вообще ему наскучило летать на космических кораблях. – Объясни толком, куда мы держим путь, а то невежливо как-то получается по отношению ко мне.
– Ну, прости, если невежливо… – ответил Циркуль спокойно. – Объясняю: мы летим на другую планету, в другое созвездие, боюсь, что эти названия будут новыми для тебя.
– Вот тебе и раз, – огорчился Зонтик. – Перемены в жизни хороши, но не так резко и не до такой же степени!
– Почему ты так думаешь? – остановил его Циркуль. – Погляди на меня: моя жизнь целиком подчинена переменам, и я смирился с ними. Главное, чтобы дело делалось, чтобы получать радость от своей деятельности, а всё остальное…
– Ну, у тебя свои, чисто геометрические расчеты и… какое-то «высшее применение», – догадался Зонтик, – а у меня – свои… неразрешимые проблемы.
– Проблемы, говоришь? – Циркулю совершенно не хотелось, чтобы Зонтик и дальше считал его невежливым и озадаченным только своим собственным или «высшим применением». – Мы с тобой летим как раз туда, где можно сразу сделать два дела: и от своих проблем избавиться, и другим помочь разрешить их проблемы, а проще – в несчастье помочь. Понял?
– Не очень-то, – отвечал Зонтик, поглядывая в иллюминатор. Густота ночи Вселенной надёжно охраняла невидимые тайны Космоса. Почти ничего не просматривалось; звёзды казались мелкими, и лишь вдалеке ясно светилась большая красивая звезда, окруженная туманными облаками…
– Слушай меня, – Циркуль собрался с мыслями и начал объяснения. – Мы летим не куда-нибудь, а ко мне домой, в созвездие Стрекоззан, по направлению к звезде Кулонцу.
– Ты не шутишь? – спросил Зонтик недоверчиво.
– Нисколько, и не перебивай... Я живу на Циркулоне, понимаешь? Циркуллон – так называется наша планета, подходящая для жизни точных, правильных фигур, созданных ими творений и сопутствующих одушевленных предметов. А наше светило – Кулонце: всё равно, что у вас – Солнце. В созвездии Кулонца – четыре планеты (в порядке отдаленности от светила): Окуллон, Баллон, Диколлон и Циркуллон. Для сведения: на Окуллоне жили стеклообразные обитатели, на Баллоне – преимущественно металлообразные, на Диколлоне – в основном жидкостные аборигены.
– Ну и названия у вас! Циркуллон… – натянуто улыбнулся Зонтик, ошарашенный неожиданными сведениями, но уже заинтересовавшийся рассказом Циркуля.
– Хорошее название, – продолжил Циркуль, – соответствует сущности нашей планеты, где жили по ступенчатым законам основополагающего Циркуля. Не стану сейчас излагать тебе эти законы, да ты и не готов к их пониманию. Продолжу историю нашего народа, привыкшего жить в мире и спокойствии. И сколько разумного присутствовало в жизни циркуллян! Они ощущали себя в единстве с природой планеты и внешним миром, миром Космоса, бережно относились к своей планете, были очень чуткими к погоде, уважительны к другим формам жизни, трудолюбивы, добры и милосердны друг к другу. Циркулляне планировали жизнь с учётом состояния определённых фаз дневных и ночных светил, уж не говоря о соблюдении законов развития. Бывали и неприятности, но наши руководители научились правильно относиться к ним, и мы переносили все испытания с малыми потерями… Тебе не скучно? – прервал он рассказ, посматривая на Зонтик: не потянет ли его в сон?
– Нет, что ты, – успокоил его Зонтик. – Так любопытно! Я никогда не слыхивал такого. Диву даюсь... Неужели на других планетах не так, как у нас? Единство, уважение, милосердие... И даже… законы развития…
– Как видишь… – сказал Циркуль. – Наши светлые умы учитывали связь между возмущениями на планете и магнитными бурями на Кулонце: например, умели рассчитывать наперёд многие общественные события, предвидеть неожиданности, научились избегать несчастий.
– Похвально… – протянул Зонтик. – Нам бы так!
– Всем бы так! – размечтался о прошлом Циркуль. – Но нам, смирным и законопослушным циркуллянам, не повезло именно потому, что были добры, отзывчивы на чужие несчастья.
– Совсем как я, – тихонечко пробормотал Зонтик.
– Очень похоже, – улыбнулся Циркуль, обнаруживая свою осведомлённость в личной жизни Зонтика. Сверкнул осями и тут же погрустнел: – Несколько тысячелетий назад на Окуллоне произошла обширная техногенная катастрофа, и лишь часть жителей смогла спастись. Они попросили убежища на нашей планете; мы согласились их приютить. – Циркуль вздохнул с огорчением. – Вот за это и поплатились!
– Как это случилось? – спросил Зонтик, так и не зная, верить или не верить увлекательному рассказу Циркуля.
– Случилось… Вместе с окуллянами к нам пожаловали вражда и самые гнусные пороки. В итоге циркулляне разделились на два лагеря: «Циркачи» и «Окулляне», потом уж «Окулляне» переименовали себя в «Акуллян» – и их акулья натура всё более вылезала наружу. «Циркачи» продолжали жить по старым проверенным законам, а «Акулляне» принялись насаждать свои, пиратские правила (что ухватил – то и твоё, что не досталось – уничтожь!), и этим вызвали гнев Космоса на свою голову, да и на всех нас, живущих в смирном дотоле созвездии Стрекоззан, – Циркуль глубоко вздохнул. – Космос обрушил на наш Циркуллон ураган комет, и от тысячи взрывов планета не просто пострадала, а лишилась большинства форм жизни.
– И как же дальше? – робко спросил Зонтик, так и не сумевший понять, принимать откровения Циркуля за правду или считать досужим вымыслом.
Но и в одном, и в другом случае:
куда же всё-таки они летят?
– А дальше, – продолжал Циркуль, опечаленный прошлыми переживаниями, – уцелел тот, кто сумел заблаговременно удалиться в подземные пещеры. К сожалению, катастрофа почти уничтожила атмосферу Циркуллона, на поверхности планеты жить стало невозможно, и все мы, сторонники «Циркачей», циркули, линейки, блокноты, тетрадки, ластики и карандаши – оказались под землёй.
– А как же «Акулляне»? – спросил Зонтик.
– Эти захватчики и их приспешники успели заблаговременно переместиться на Баллон, и сведения, поступающие оттуда, – самые неутешительные. Раньше-то мы были связаны с Баллоном тесными узами сотрудничества... Хорошо, что Диколлон дал отпор «Акуллянам». – Циркуль вытащил из-под сиденья какую-то карту и развернул её перед Зонтиком. – Видишь, это – подробная карта нашей Галактики; мы уже вошли в зону её влияния. Вот – наше созвездие, вот – планеты, о которых я упоминал, а вот – сам Циркуллон.
Тут до Зонтика по-настоящему дошло, что Циркулю нет смысла говорить неправду; у смирного и непритязательного Зонтика прямо перехватило дух от того, что узнал, а более от того, что увидел на карте звёздного неба. А что он раньше видел и знал? Ну, прихожая, милые или неприятные жильцы, невинные увлечения… шумный квартал, маленький провинциальный городок с окрестностями, откуда до межпланетного аэропорта – как до… Друзья, конечно, замечательные, но что знали и видели они? Хотя и ему самому, и Рюкзаку, и Плащу приходилось много путешествовать, но ведь не на другие же планеты, и тем более, не в другие Галактики!
Вот Шляпка – та вообще… Ах, зачем только вспомнил о ней!
– А как же ты попал к нам, на Землю? – спросил Зонтик, чтобы заглушить проснувшуюся боль памяти, возникшей дорогими образами.
– Очень просто: я прилетел за тобой, – ответил Циркуль, отыскивая на карте Солнце и Землю. – Видишь, куда указывает звездная пыль? – он провел своим тонким остриём вдоль едва заметной размытой линии, соединяющей две дорогих ему планеты несколькими рядами звёзд.
– За мной? – удивился Зонтик, нехотя отвлекаясь от своих земных привязанностей. – Почему именно за мной?
– Пока не могу открыться до конца, но скоро всё узнаешь. А на Землю я попал относительно недавно как посланец Циркуллона. На научном совете «Циркачей» было решено направить десятерых посланцев на десять планет во Вселенной, где нашими учеными были обнаружены приемлемые для нас условия жизни и… всё остальное, например, понимание на уровне разговорной речи. Опережая твои дальнейшие вопросы, замечу, что разговорная речь большинства правильных фигур и одушевлённых предметов мироздания не требует оригинальной расшифровки соседними видами подобных существ независимо от других физических величин – таков порядок вещей во Вселенной. Понял?
– Не очень-то, – растерянно признался окончательно сбитый с толку Зонтик, но махнул спицами и, помолчав, робко продолжил: – Так ты прилетел на Землю и поселился у нас…
– И я поселился в вашем уютном Рюкзаке, не подозревающем ни о чем! – подтвердил Циркуль.
– Но ведь тогда… В то время я выглядел совершенно иначе, и вообще раньше я был другим! – не сдавался Зонтик. – Выходит, ты знал, что я… переменюсь? Быть этого не может...
– Ну, конечно же, может! И, поверь, вычислить это было совсем не сложно, – отвечал Циркуль, озадачивая Зонтик всё больше и больше. – Ты не в состоянии понять всего, потому что на Земле живут и мыслят другими категориями и понятиями, совсем не так, как у нас, несмотря на то, что говорим на родственных языках. Я потом тебе всё объясню – на досуге.
Вон оно что, на Земле живут и думают «не так…» Зонтик почувствовал, что его клонит в сон от размышлений, и не сопротивлялся, уснул быстро. Ему снилось всё подряд, и даже то, что представилось по рассказам Циркуля. Сколько спал, не помнит, но, проснувшись, увидел, что Циркуль тоже крепко спит, и снова заснул. Время словно исчезло за горизонтами пространства или переместилось на другие оси координат. Зонтик этого не знал, но... Циркуль спал с перерывами, контролируя себя. Оба окончательно проснулись, только ощутив перегрузку при подлёте к Циркуллону. Долго же летели! Собрались побеседовать о предстоящем, но тут прозвенели часы, висевшие в салоне корабля. Корабль вздрогнул, как живой...
– Всё, мы – у цели, – догадался Циркуль.
– Внимание! Полная готовность! Слушать мою команду: пора пересаживаться в катапульту! – отчеканил уже знакомый голос невидимого командира корабля.
Тройные ремни отстегнулись сами собой, затем что-то вытолкнуло путешественников из кресел, перекинуло на транспортёр, свистящей лентой ползущий вдоль узкого прохода – и вот они уже у дверей в конце салона. Двери моментально распахнулись, и уже знакомая неведомая сила, не проявляющая себя без причины, протолкнула их в узкую камеру, затем плотно обхватила широкими ремнями, прижав к мягким креслам. Зонтик не успевал удивляться происходящему.
– Осторожно, не двигаться до приземления, – предупредил всё тот же командирский голос. – Желаю мягкой посадки!
…Ракета осталась на расчётной орбите, а камера-катапульта отделилась от неё и приземлилась на поверхность неведомой Зонтику планеты не столько резко, сколько неудобно. Оказалось, трудно выбираться: дверцы не раскрылись до конца, упершись в кусок скалы, нависшей над пустынным пространством. Первым вылез более вёрткий Циркуль, а за ним показался Зонтик, расправляя смятые складки и проверяя, цела ли гнутая ручка, гордость дизайнера, некогда разрабатывавшего внешний облик Зонтика. Правда, расцветку он подобрал другую…
«Что за глупость лезет из моих спиц?» – подумал Зонтик, отряхиваясь и озираясь вокруг. Да, Циркуль не соврал: серые мрачные камни, трещины и расщелины, сухость и пыль, голые тусклые скалы, восходящие к безжизненным горам…
Никакого намека на травинку или былинку… Никакого светила на мутно-сером небе… Никакого движения вокруг… Душно и смрадно – дышать тяжело. Неужели здесь можно жить?
– И что же, так у вас – везде? – спросил обескураженный Зонтик. Циркуль, подкручивающий своё верхнее колёсико, разболтавшееся от перелёта, казался равнодушным к окружающему их ландшафту.
– Можем совершить экскурсию куда угодно, катапульта способна перемещаться в любом направлении, – сказал Циркуль. – Но к чему зря обнадеживаться? Везде примерно одинаково.
– Значит, мы должны спуститься под землю?
– Зачем?
– Ну, я думал, ты меня хочешь познакомить с твоими… с жителями вашей планеты, – сказал Зонтик, опуская одну из спиц в глубокую трещину, чтобы проверить, есть ли у трещины дно.
– Нет, мы сделаем по-другому, – остановил его Циркуль. – Сейчас я скажу, для чего я так старался, «заманивая» тебя сюда.
– «Заманивая»? – переспросил Зонтик. – Ведь я и сам…
– Конечно, ты и сам оказался готов к своей миссии, – улыбнулся Циркуль, отойдя и озираясь по сторонам, словно выискивая какое-то особое место. Наконец нашёл. Здесь! Сверкая ножками, очертил вокруг себя круг самого большого радиуса, на который был способен, и повернулся несколько раз вокруг своей оси. – Вот отсюда и начнём.
– Какая миссия? Что «начнем»? Почему – я? – Зонтик так и сыпал вопросами, пока Циркуль совершал свои манипуляции, напрягаясь и всё более задыхаясь от усердия. Вот Циркуль закончил приготовления и произнёс:
– Твоя миссия – стать родоначальником новых видов жизни на нашей планете, на Циркуллоне. Как только на поверхности планеты возобновятся хоть какие-то формы жизни, обеспечивающие планету кислородом, все наши вынужденные «подземные затворники», «Циркачи», тут же смогут вернуться наверх. А пока им высовываться не стоит.
Не хватает кислорода... Вот почему здесь так трудно дышать!
– А чем же они дышат там, внизу? – спросил Зонтик.
– Это трудно объяснить в двух словах, но наши прозорливые конструкторы незадолго до катастрофы успели разработать особые приборы и устройства из серии «Резервная атмосфера». Эти аппараты действуют только в малых изолированных объемах воздуха и ограниченное время, понимаешь?
– В подземных пещерах, например? – догадался Зонтик.
– Ну да. Но сколько можно томиться в пещерах? Да и срок действия устройств истекает, надо спешить, а то будет поздно.
– А мы успеваем? И что нам надо успеть? – Зонтик всё ещё не понимал, что следует сделать и каким образом он может пригодиться в данном случае – ведь дождей нет, снега тоже. И причём тут какая-то миссия…
– Сейчас все поймешь сам. Давай по порядку. Становись со мной рядом, поближе, – подозвал Циркуль, и Зонтик подошёл к нему вплотную. – Теперь приступим – приступим к оправданию нашего предназначения. Мы с тобой сконструированы в соответствии с нашим основополагающим законом – Законом Большого Циркуля. Понимаешь?
– Кажется, понимаю, но раньше мне об этом не говорили.
– Некому было – вот и не говорили. А теперь раскрой свой купол, сначала немного, чтобы он перекрывал тот круг, на котором мы находимся, и аккуратно повернись несколько раз вокруг своей ручки.
– Но зачем? – не догадывался Зонтик, привыкший размышлять на совершенно другие темы.
– Сейчас сам увидишь; давай, не мешкай, – поторапливал Циркуль, и Зонтик сделал, как его просили.
Циркуль принялся вращаться, приглашая Зонтик делать то же самое. Зонтик обернулся один раз, другой, третий… На седьмом обороте увидел, что почва слегка промялась под его тяжестью и почувствовал, что воздух стал гораздо теплее. На двенадцатом обороте – в сером небе пробилась светлая брешь, и несколько слабых лучей Кулонца упали на убогую поверхность безжизненной планеты, на Циркуль, на него самого, и вдруг…
Зонтик ощутил, что словно вздымается вверх, а с каймы его раскрытого полностью купола что-то сыплется, слетает и разносится вокруг. Тридцатый оборот – не может быть! Листва и цветы диковинных растений небрежно падали с купола на сухую почву и сразу же приживались на ней, пуская корни, перепутываясь с травой, выбивавшейся навстречу из мелких трещинок и канавок. Пятьдесят первый оборот!
Зонтик что-то тянуло и толкало подниматься выше и выше – и вот он уже парит в воздухе, чтобы как можно дальше разлетались от него семена цветов и растений!
Ещё один виток вверх – сделано около ста оборотов! – и целая рощица мелких деревьев и кустарника выросла над большой канавой, а на месте самой канавы появился ручей. Он образовался из капель воды, упавших с прекрасного цветка лилии, нарисованного почти в середине купола Зонтика. Едва успели прижиться цветы, как сиреневые стрекозы и оранжевые бабочки весёлой гурьбой спорхнули на них прямо с небесного свода, венчающего купол Зонтика. Они тотчас наполнили воздух трепетом упругих крыльев. За стрекозами и бабочками последовали птицы, которые не замедлили пуститься в рощи и луга, разбегающиеся тем дальше и выше в горы, чем выше поднимался Зонтик, чем скорее вращался. Даже солнце и облака, обозначенные на куполе намёком, сыграли свою роль, и небо над Цикруллоном стало намного ярче, а лучи Солнца-Кулонца жарче! Самое интересное во всём этом: облик Зонтика совершенно не изменился. Не удивительно, что сам он не задавался вопросами: «А что будет со мной в итоге? А вдруг я нанесу себе вред этими манипуляциями?»
Нет, никакого вреда ни для кого не случилось, а выходило совсем наоборот. Циркуль вращался внизу, своим вращением помогая Зонтику по Закону Большого Циркуля, изредка останавливаясь и посматривая вверх, на Зонтик. Циркуль уже потерял счёт и своим оборотам, и оборотам Зонтика; сам с восхищением думал: «Как хорошо, что я не ошибся в нём!» Несколько десятков самых разных растений уже закрыли от них ту катапульту, в которой они прилетели. «Ничего, потом сдадим её в музей Новейшей истории Циркуллона, но сначала откроем его!» – подумал с удовольствием Циркуль. А Зонтик всё ещё продолжал парить, кружиться и ронять новые и новые чудесные растения, радуясь тому, что может сослужить пользу неизвестной ранее планете, её обитателям. Кстати, где же они?
– Давай спускайся, хватит на сегодня, – кричал ему Циркуль, замедляя вращение. А Зонтик со своей высоты уже заметил, что из подземных ходов и расщелин на поверхность медленно выбираются слабые, бледные и согбенные существа, в которых едва угадывались знакомые полупрозрачные силуэты линеек, транспортиров, карандашиков, блокнотиков, угольников, скрепок, кнопок. Похожих на этих страдальцев, но не таких измученных, он иногда встречал у себя на Земле. Вдруг ему показалось, что среди них мелькнула… розовая Шляпка, но, спустившись пониже и присмотревшись, увидел, что это лишь… обычная промокашка. И нечего мечтать о несбыточном! Только напрасно расчувствовался, неудачливый воздыхатель… Или удачливый – в чём-то? Уже снижаясь, ещё раз с грустью вспомнил о Земле, а очутившись рядом с Циркулем, вновь подумал: как далеко дорогие друзья, Рюкзак, Плащ и… У него всё перемешалось в сознании, закружилось в голове, но сделанное только что удовлетворяло – радость была огромной!
А со всех сторон к ним стекались благодарные обитатели Циркуллона, которые кинулись обнимать их. Они кричали слабыми от долгого заточения голосами:
– Циркуль вернулся к нам и привёз помощь! Ура нашим спасителям! Честь и слава нашим избавителям от холода и тьмы!
Циркуль был очень растроган и доволен, что потрудились не напрасно; он горячо обнимал соплеменников, они снова и снова благодарили его и Зонтик. А Зонтику было неловко принимать слова благодарности и знаки уважения, потому что бабочки, цветы, солнечные лучи, изображённые на его куполе, – вовсе не его заслуга: ведь если бы не Шляпка, оставаться ему серостью до конца своей жизни.
А серости суждено только одно – быть вечной серостью!
…На следующий день Зонтик с Циркулем продолжили свою работу в новом месте, через неделю – в другом, потом – в третьем, и так – почти целый год, чтобы охватить весь Циркуллон. Природа планеты постепенно возрождалась. За это время на Земле пролетело почти два года. Оба труженика очень устали, но не сдавались, пока не завершили начатое. Но, наконец, дело было сделано, и планета ожила полностью. Как все радовались! На Циркуллоне началась Новая эра, что было зафиксировано документально. Циркулянам предстояло устроить свою жизнь заново, действовать осторожно и благоразумно, не допуская возврата к старому. Необходимо восстанавливать города и селения, налаживать производства, развивать общественные связи, лечить и оздоравливать тех, кто в этом нуждался – действовать чётко, с математической точностью, как и полагается по статусу планеты.
А как быть с политической жизнью, вокруг которой могли запросто возникнуть нежелательные завихрения? Во избежание волнений, стычек, спонтанного захвата власти старейшины «Циркачей» по истечении первого месяца Новой эры учредили Большой Совет. На Первом созыве Совета представители всех регионов планеты, делегаты всех прослоек общества приняли решение называть себя циркуллянами, дабы впредь никому неповадно было разобщаться на противоположные лагери. Тут же была выдвинута кандидатура правителя планеты из числа трёх самых уважаемых руководителей, проявивших себя достойно в тяжёлые времена. Впоследствии провели планетарный референдум – жители согласились вполне с решением Совета.
На том же созыве Большого Совета Зонтику и Циркулю была торжественно вынесена Планетарная благодарность, и оба они получили статус «Почётных граждан Циркуллона». Что касается Циркуля, он занял свою пожизненную руководящую должность в Высшем научном совете планеты, и это его вполне устраивало. А Зонтику предложили (ни больше, ни меньше!) место Первого консультанта в штате правителя Циркуллона.
Зонтик категорически отказался.
– Уж не хотите ли вы, наш спаситель и избавитель, покинуть нас? – спросил самый старый и опытный советник, сокрушаясь, что Зонтик и впрямь захочет вернуться обратно на родину.
– Да нет, не хочу, – успокоил его Зонтик. – Сказать по правде, мне некуда возвращаться. «Куда?» – это одно, а «К кому?» – это совсем другое...
– Ваш ответ нас воодушевляет, – обрадовались прочие сановники, не ожидавшие такого простого ответа. – Но чего бы вам хотелось в таком случае?
– Ничего особенного, – отвечал Зонтик. – Радоваться жизни вместе с вами, помогать вам по мере сил, жить по вашим мудрым законам, а самое заветное желание…
– Какое же? – старейшины опасались, что не смогут его выполнить.
– Хочу, чтобы как можно меньше обращали на меня внимания, так мне будет свободнее и проще, – отвечал Зонтик, вызывая у почтенных заседателей вздохи облегчения.
Никто не думал, что за спасение целой планеты можно запросить так мало…
– Ну, раз так, поступайте по своему усмотрению, – решили старейшины.
...Теперь, кажется, наши герои могли вздохнуть спокойно, и не только они. Жизнь налаживается, и можно надеяться, что дальше будет только лучше, а не хуже. К хорошему привыкаешь быстро! Завершив основную программу восстановительных мероприятий, Зонтик с Циркулем взяли короткий отпуск. За это время решили, что поселятся в маленьком городке, который только начали выстраивать по современному проекту неподалеку от Скалы спасения – так наименовали скалу, где приземлилась та самая катапульта. Городок назвали Зонтиллоном – по имени Зонтика, а по соседству со Скалой спасения и в самом деле основали музей Новейшей истории имени Циркуля.
Вот каких памятников при жизни были удостоены скромные Циркуль и Зонтик! Казалось бы, они могли устроить вокруг себя пышное почитание и слушать льстивые дифирамбы с утра до ночи, но предложи им такое, так они ещё и обиделись бы – после того, как пожелали оставаться скромными и не очень заметными. Посему вовсе не удивительно, что они обустроили своё милое жилище… по образу и подобию той прихожей, которая осталась у обоих в памяти, а для Зонтика – была тем лучшим, что связывало его с родиной. Теперь уж и Берет не казался ему брюзгой, и Ружье – не таким ужасным и безжалостным, и Лосиные Рога – не такими занудливыми, и Шляпка – не такой ветреной, а даже напротив – фантазёркой. Дорогая мечтательница! Если бы не она, не стать бы ему никаким родоначальником новой жизни на этой планете! А милый, пунктуальный Коврик, бдительный страж домашнего порядка, вспоминался с умилением…
Циркуль всякий раз разделял переживания Зонтика о прошлом и пытался развеять его тоску, но не тут-то было: Зонтик не переставал волноваться, как там дела у Плаща, Рюкзака и… Конечно, у обоих появились государственные – даже планетарные – обязанности и общественные нагрузки, занимающие их целиком. «Спокойствие грозит только музейным экспонатам» – вот девиз жизни, выдвинутый Циркулем, и Зонтик не без удовольствия подчинился ему.
Зонтик и Циркуль везде были дорогими гостями, их замечания и советы принимали к сведению, их пожелания рассматривались как приказ. Планетарные герои проводили в делах и разъездах по Циркуллону недели и месяцы – тем радостнее было возвращаться домой. Дома – другое дело! Но стоило расслабиться от дел, как на Зонтик накатывали прежние воспоминания, и пошло…
Чувства не давали покоя. Вспоминались и такие моменты, которые, казалось, забыты навсегда. Зонтик с грустным видом садился на лавочке около дома возле любимых им зонтичных растений и рассеянно смотрел куда-то вдаль. Некоторые поговаривали, что Зонтик заболел серьёзно. Только Циркулю было яснее ясного, что его болезнь – слишком застарелая, и, скорее всего, лечить её нужно особыми средствами.
– Скучаешь о своих прежних друзьях? – спрашивал Циркуль.
– Чего спрашивать? И ни о каких прежних, а о настоящих… Только расстраиваюсь зря… – Зонтик не отрывал взора от горизонта, словно кого-то ожидал издалека.
– И не зря. Скоро наши ботаники пошлют космический корабль на Тау-Бургу, что в созвездии Манелиуса. На обратном пути обещают посетить Солнечную систему; если попросим – могут заглянуть и на Землю. Хороша ли моя идея? Ну, как?
– Неужели?! – обрадовался Зонтик. – Они могут взять меня с собой?
– Нет, наверняка не могут, да помню, ты и не рвался туда, – остановил его Циркуль. – А потом… Ты не можешь бросить все дела и сорваться куда-то. И ещё одно: твоя жизнь представляет для нас немалую ценность.
– Так зачем ты мне про это рассказал? – расстроился Зонтик.
– Затем, что ботаники поинтересуются о твоих друзьях и, если не возражаешь, пригласят их к нам, – мягко осадил его Циркуль.
– О, как я был бы счастлив! – Зонтик захлебнулся от радости.
Старейшины были довольны, что подвернулся случай отблагодарить Зонтик так, как он того захотел, и это будет просто. Вышел Планетарный Указ – ботаники поставили в свои планы интересы Зонтика на его родной планете, возвели их в ранг первостепенных и вскоре отбыли туда, куда Зонтику ни за что не добраться самому… Надо ли говорить, как верный Зонтик ожидал их возвращения, продолжая начатые дела в самых отдалённых провинциях, а про себя думал об одном! В конце концов он совсем потерял сон. Возвратившись из поездок домой, просиживая ночи напролет на лавочке во дворе и глядя в тёмное небо, размышлял… И где она, Земля? Неужели придётся умереть, так и не дождавшись счастья? Циркуль, поглядывая на него, стал опять волноваться о его здоровье.
– А далеко ли созвездие Манелиуса? А оттуда – до Солнца и Земли? – постоянно спрашивал Зонтик.
– Да брось ты думать об этом, – успокаивал его Циркуль. – Когда не думаешь, время летит быстрее!
…Но вот наконец-то сообщили, что корабль вернулся и Зонтика ожидают сюрпризы. Он бросился навстречу этим сюрпризам – в прямом смысле, – не подозревая до конца, в чём они заключаются. Так, несколько дней спустя, вместе с Циркулем они вышли на дорогу, ведущую от Зонтиллона мимо Скалы спасения прямиком к автовокзалу, где ожидали прибытие межпланетной делегации с космодрома. Едва двинулись вперёд, как увидели: навстречу им катит автобус ботаников, весь расписанный яркими жёлтыми цветами. Как только автобус остановился, его тут же окружили циркулляне, приветствующие гостей. А из автобуса вышли, не считая самих ботаников, двое… те самые-самые родные и душевные друзья во всей Вселенной! Неужели они? Зонтик замер: если это они, то… что же с ними произошло? Их трудно узнать: Плащ как будто выцвел и обтёрся, Рюкзак словно похудел и в то же время разошёлся по швам.
Оба двигались вяло, что было на них не похоже, но это были именно они, и спутать с другими их было нельзя… Ай да ботаники! Это вам не бабочек ловить и тычинки-пестики сортировать! Едва живые Рюкзак и Плащ прямо-таки бросились к Зонтику, принялись обнимать и целовать его:
– Братец ты наш! А мы ведь твой чехол хранили, и до сих пор храним. Гляди-ка! – Плащ вытащил из кармана Рюкзака изрядно полинявший почему-то чехол Зонтика. – Видишь?
Да… Вот с него-то всё и началось, но Зонтик промолчал об этом, опасаясь, как бы невзрачная тряпочка не угодила в музей Новейшей истории. Он с опаской покосился на появившихся как из-под земли ушлых корреспондентов, не желающих упустить уникальную встречу с добровольными пришельцами из Космоса. Но Циркуль шепнул ему, что волноваться не стоит, что он всё уладит, а с чехлом разберёмся потом.
Только кто это ещё показался из-за спин встречающих, которых урезонивал и призывал к спокойствию Циркуль? Неужели… Нет, этому невозможно поверить, да Зонтик и не поверил бы ни за что, если бы все долгие годы разлуки с близкими не были бы пронизаны трепетным ожиданием. Да, это была она... Розовая (некогда розовая!) фетровая Шляпка медленно направилась к нему, чуть-чуть прихрамывая и опираясь на сачок, услужливо предложенный сопровождающими ботаниками.
– Милая моя! – кинулся к ней Зонтик. – Ты ли это?
– Вот и ты… не узнал меня, – тихонько прошептала она, останавливаясь и не решаясь подойти ближе, но Зонтик сам подбежал к ней и чуть не упал рядом от нахлынувших чувств. – С тех пор, так ты пропал, никто… не укрывал меня от дождя и…
– Знаешь, дружище, – продолжил Плащ, сохранившийся лучше всех, – с тех пор, как ты покинул нашу обитель, нас постигло несколько несчастий сразу. Сначала начались мелкие неприятности, а потом… В нашей прихожей стали хозяйничать Боксёрские Перчатки; они вторглись так неожиданно, что даже Ружьё не сообразило сразу, как вести себя, уж не говоря о Патронах и… всех остальных. Да Перчатки-то появились не одни, а вместе с Боксёрской Грушей. Что тут началось! Эта Груша – отвратительная, вульгарная особа. Сразу посчитала себя командиршей, распоясалась как диктатор, принялась наводить свои порядки, устанавливать «правила ринга». «Нокаут», «нокдаун», «шок» – только и слышалось с утра до ночи, а мы ведь к этому не привыкли…
– Но почему всё это случилось? – спросил потрясённый Зонтик, так и не отрывая глаз от смущённой Шляпки.
– Мы сначала тоже не поняли, почему шум, – вздохнул Плащ, – но потом стало ясно: всему виной – Кроссовки! Повздорили с Ботинками, да и привели за собой с тренировки подкрепление, этих боксёров-бомбардиров, а они…
– Хлебнули мы горя… – всхлипнул Рюкзак, вид которого говорил о тяжёлом душевном разладе. А Ботинки-то каковы! Помнишь ли нашу Обувную Щётку? Не забыл ещё?
– Конечно, помню, – ответил Зонтик. – И чем она могла помешать? Уж она-то уживалась со всеми!
– Уживалась, ну и что? – горько усмехнулся Плащ. – Старательную труженицу вышвырнули за порог без объяснений. Я вступился за неё, да и вообще попробовал «возникать», а Рюкзак поддержал меня. За это нам приказали выметаться вслед за ней. Остальных несогласных – туда же! Все эти Ботинки, Шарфик, Берет – даже не пытались сопротивляться. Бедняжка Шляпка вмиг оказалась без защиты... Мы поняли, медлить нечего, порешили дождаться ночи. Ночью легче «сматываться», а там – куда судьба определит. Ну, Шляпку мы не могли оставить на произвол... Вечером Рюкзак выгрузил свое «добро» в уголке, чтобы освободить место, вернее, освободить себя…
– Да, всё оставил там, а думал, на целую жизнь хватит, – всхлипывал Рюкзак, погружаясь в воспоминания.
– А Ружьё – что, пустое место? – всё-таки спросил Зонтик. – Уж оно-то могло бы всю эту шатию-братию припугнуть!
– О чём ты… – вздохнул Плащ. – Ружьё и Патроны сначала объявили нейтралитет, а дальше… Ружья всегда становятся на сторону сильных, а справедливость их мало интересует.
– Да, это так, – вспомнила Шляпка о привычках Ружья.
– Поэтому ровно в полночь мы взяли и ушли; Шляпку спрятали в Рюкзак, улизнули по-тихому, почти ни с кем не попрощавшись, только заглянули в Зеркало да раскланялись с Ковриком… – Плащ останавливался через слово, переживая сказанное. – Долго искали, где бы устроиться на жительство, но милого уголка так и не нашли. Кругом – одни чужаки! Тыкались туда-сюда... То в тамбуре каком-то жили, то в сараюшке, в подворотне, потом… Словом, приличные места везде оказались заняты, вот и скитались по разным забегаловкам. Страшно рассказать, чем жили. Преступниками не стали, но превратились в бродяг, в натуральных бомжей... Так в поисках пристанища и мотались... – Плащ опустил на плечи капюшон, давно потерявший прежнюю форму. – Да и кому мы нужны – такие?
– Да, частенько вспоминали тебя, дорогой друг, как обидели тогда, хоть и не нарочно, – вымолвил Рюкзак и зарыдал, сотрясаясь всеми кармашками и держащимися «на честном слове» пряжками, стесняясь при этом, потому-то и старался кое-как прикрыть расползающуюся от дряхлости молнию на левом боку. Но заставил себя успокоиться, договорил: – Кочевали под ветром и дождём, а то под солнцем палящим; ждали своего последнего часа, холодные, голодные, никому не нужные… Мыкались-мыкались, да однажды и оказались почти на свалке; думали: «Вот он тот час!» – и тут…
– Не поверишь, именно там, возле свалки, присели без сил и поддержки под кустами можжевельника. Так и собирались закончить существование, – промолвила Шляпка, оправившись от первого впечатления и постепенно согреваясь от тёплых чувств, излучаемых Зонтиком. – И вдруг над нами прозвучали чьи-то слова: «Очнитесь, вас ожидает новая жизнь!»
– Да-да, – подтвердил Плащ. – Так и было сказано: «Новая жизнь!» Смотрим – незнакомцы какие-то, необычные обликом, но не побрезговали нами, а наоборот… Мы удивились, конечно, а потом обрадовались, когда услышали о тебе: мол, жив и здоров, разыскиваешь нас. Не поверишь, прямо крылья почувствовали! Привели себя мало-мальски в порядок, и вот видишь…
– Мои дорогие… – Зонтик заплакал, не пряча слёз, и тут начался такой сильный дождь, что Зонтику пришлось раскрыться для лучших чувств.
Циркуль как будто ждал этого и радостно закричал:
– Ура Зонтику! Ура дождику! Свершилось долгожданное! Такого дождя на планете не случалось несколько лет!
Все бросились под Зонтик, а он раскрывался всё больше и больше, с удовольствием пряча от дождя своих дорогих друзей и всех, кто стоял рядом с ними.
Под его куполом вполне хватило места для всех, а Шляпка оказалась так близко к его сердцу, как никогда раньше!
Проснувшееся седьмое чувство заставило Зонтик ликовать, с благодарностью вспомнить тот день, когда он изменил облик и оказался на переломе судьбы: «Не жалей о случившемся. Пусть тебя не поймут сразу, но потом… Не огорчайся глубоко, прихожая – это только преддверье дома, твой дом – впереди; всё образуется, и ты поймешь, что твоя жизнь только началась!»
Да, жизнь только началась, и началась не только для Зонтика.
С тех самых пор на Циркуллоне произошли значительные изменения: периодически начали проливаться, как их стали называть, «зонтичные дожди», обильно орошающие почву. После этих дождей на небосвод обязательно выходило Кулонце, и его лучи быстро осушали лужи, ускоряли рост растений и созревание плодов. Жители планеты были «на седьмом небе»: они дожили до лучших времен! Раньше дожди выпадало редко, а теперь – чуть ли не каждую неделю, что они улучшало общее настроение циркуллян. Ученые-ботаники от души благодарили Зонтик, а тот указывал на Шляпку:
– Без её фантазии не было бы у меня такой наружности и вообще... такого содержания. Это её нужно благодарить!
Шляпке поначалу было очень неловко и перед Зонтиком, и перед циркуллянами, но все к ней были так добры, что вскоре она успокоилась, пришла в себя, порозовела – и снова расцвела необыкновенно. А прежний (изрядно потрёпанный) бантик сменила на элегантный ободок, чем начала новое направление в моде – это вызвало одобрение самых знаменитых модельеров планеты. Рядом с Зонтиком она смотрелась великолепно! Теперь Зонтик ни за что не отпускал Шляпку от себя, и она стала такой красивой, какой никогда не была в прошлой жизни. Жить друг без друга дальше они уже не могли. Окружающие с восторгом восприняли их помолвку. Больше всех радовался Циркуль, потому что знал это наперёд.
Глядя на восхитительную пару, циркулляне решили завести новый обряд создания счастливой семьи, и Шляпка с Зонтиком стали первыми, прошедшими такой обряд. Несмотря на то, что торжественный обряд, включавший в себя элементы старейших планетарных традиций, был ранее не знаком землянам, молодожёны оказались на высоте. То-то все радовались! Счастливцев стали называть не иначе как образцовой парой, хотя обликом и манерами они очень отличались от циркуллян. Благодушные циркулляне начали брать с них пример.
Рюкзак с Плащом воодушевились счастьем Зонтика и Шляпки, что им сразу прибавило энтузиазма. Они быстро восстановили свои силы и с удовольствием обновили внешность местными средствами – окрепли, ощутили плотность своих тканей, упругость внутренних швов и достоинства внешней отделки. Словом, показали, как можно открыть в себе «второе дыхание». Но это ещё не всё. Им предложили работу, и чтобы не пропадать зря, они согласились – занялись важными административно-хозяйственными делами, до которых выказали охоту. Особенно довольным казался Рюкзак: наконец-то обществу пригодились его практические наклонности! Поселились они всё в том же, облюбованном Зонтиком местечке, поближе к Зонтику и Шляпке. Циркуль обосновался по соседству – далеко ходить не надо; вот и отлично. А главное заключалось в том, что у всех как были, так и остались общие точки соприкосновения.
Иногда по вечерам Циркуль, Рюкзак и Плащ прогуливались по окрестностям благоухающего цветами Зонтиллона, а то и вблизи музея Новейшей истории, превратившегося в целый дворец, Дворец истории жизни. Рюкзак, отучившийся ворчать и пыхтеть, частенько поговаривал:
– Вот так проживёшь, обыкновенно вроде, а вроде и нескладно, а потом окажется, что в музей угодил!
– И не говори, – охотно отзывался Плащ. – Это потому, что мы – на Циркуллоне, а у нас-то так и сгнили бы на свалке неприкаянно. Правильно я говорю, Циркуль?
– Не знаю, – улыбался Циркуль. – Знаю только одно: я счастлив, что живу полноценно, что встретил вашу компанию. Ради этого стоит преодолевать все препятствия и расстояния. Свалка или музей – всё относительно. Главное, что мы – не под землёй, а на поверхности, и к тому же на виду друг у друга. А теперь скажите, правильно ли я говорю?
Плащ и Рюкзак засмеялись и согласились с ним; в подтверждение этого согласия с неба как раз ливанул необычайно сильный дождь. Конечно, случись такой ливень на Земле, никакие зонтики не спасли бы – наверняка не обошлось бы без очередного наводнения или потопа.
Но на Циркуллоне всё оказалось несколько иначе, с этим не поспоришь. Это и есть хорошо!

Пройдут сквозь тесные врата
Лишь те, чья совесть так чиста,
Как райской лилии цветок.
Врата открыты на восток.
Жили-были родители и двое детей – самая обычная семья, каких много на свете. Жили, может, не лучше, но и не хуже других. Мама работала врачом, лечила людей; отец служил в банке, занимался кредитованием малого и среднего бизнеса. Профессии родителей имеют большое распространение среди людей, поэтому не стоит удивляться, что дети собирались пойти по их стопам: девочка хотела стать врачом, а мальчик – банковским служащим. Все четверо славно жили в большом городе; заработка родителей вполне хватало, чтобы существовать безбедно, воспитывать и учить детей.
С начала осени до конца весны родители прилежно работали, а дети кропотливо осваивали те науки и дисциплины, которые им преподавали в колледже. Летом наступала пора отдыха, и обычно все отдыхали вместе. А в этом году папа и мама решили отправить ребят в десятидневный морской круиз, о чем те просили уже давно. Родители проводили детей до морского порта, посадили на корабль, попрощались с ними и вернулись домой. Корабль отправился в путь, и ничто не предвещало беды: море манило синевой, небо дышало спокойствием, солнце сияло, а свежий ветерок разгонял стайки пушистых облачков.
Как интересно жить на свете, как приятно отдыхать на воде!
Триста человек на корабле предвкушали радость от путешествия, особенно радовались детишки. Но ждала их не радость: на второй день небо нахмурилось, а на третий – налетела внезапная буря, закружила массивный корабль как спичечный коробок. Экипаж все-таки успел передать на материк сигнал опасности, но помощь не подоспела вовремя: в течение получаса корабль затянуло в морскую пучину. Высланные тотчас же спасательные вертолеты не могли быстро пробиться сквозь шторм, а некоторое время спустя уже было поздно. Когда буря прошла, спасателям не удалось обнаружить в водовороте ни одного человека: лишь обломки судна и пустые шлюпки остались свидетелями и доказательствами недавней трагедии.
Не хотелось верить в случившееся, но...
Те дети, о которых идет речь, погибли вместе со всеми; они даже и испугаться не успели, как их смыло с палубы ураганной волной.
Над ними зажглись две серебристые звезды, появились два сребристых Ангела и отнесли их прямо в Царство к Создателю.
Дети оказались на сребристой полянке, усыпанной светлыми серебристыми цветами и окруженной такими же сверкающими деревьями. Ангелы указали им тропинку, и дети медленно направились по ней, приходя в удивление от всего, чего никогда в жизни не видели. Это и немудрено: в жизни ничего подобного встретиться не могло. Тропинка привела их к высокому трону, от которого исходило сребристое сияние. В тот же миг глазам их стало доступно то, о чем и мечтать не могли раньше: на троне сидел прекрасный, как сам свет, Создатель света и всего живого и неживого.
– Подойдите поближе, – сказал Он, вставая с трона и спускаясь к ним. Дети послушно подошли – и ощутили тепло и радость, не ведомые им прежде. – Следуйте за Мной. Ваша земная жизнь закончилась, и теперь вас ждут последние испытания, а за ними – Мой сад, где будете пребывать до тех пор, пока Я не распоряжусь вами по-иному. Для вас это означает – «вечно».
Создатель, окруженный дивными и прекрасными крылатыми существами, повел их по широкой серебристой дороге. Некоторые чудесные создания из Его свиты пели чарующими голосами, а другие аккомпанировали им на невидимых музыкальных инструментах. Нежные мелодии сменяли одна другую, и хотелось, чтобы музыка и пение не заканчивались никогда. Необыкновенно красивые цветы и растения с обочины дороги вторили голосам Ангелов, раскачиваясь в такт музыке и расточая тончайшие ароматы и благоухания.
Дети переглядывались и восхищено молчали.
– Что это? – только и вымолвили они, когда их путь преградили высокие, довольно просторные ворота, увитые душистыми розами.
Создатель и Его свита остановились.
– Врата, через которые вам надо пройти, чтобы попасть в Мой сад.
– А это не страшно? – спросил мальчик.
– Кому как, – ответил Создатель. – Вас привела к этим вратам ваша земная жизнь, и осталось пройти только некоторые испытания. Ворота устроены так, что полностью соответствуют характеру испытаний. В жизни все зависело от вас, а теперь – от них. Оставляю вас и удаляюсь, у Меня есть другие дела.
– О, Создатель великолепный! – воскликнула девочка, поймав взгляд брата. – Прошу Тебя, снизойди до нас, выслушай нашу просьбу. Мы, конечно, благодарим Тебя за Твои милости, и врата Твои чудесны! Но там, на Земле, у нас остались родители, которых мы очень любим. У Тебя здесь все так прекрасно, что о земном и жалеть нечего. А мы... Стоит только представить, как плачут и горюют наши папа с мамой, так сразу горько становится. Поэтому позволь нам…
– Поэтому позволь нам вернуться обратно на какое-то время, – подхватил брат, – чтобы попрощаться с родителями или утешить их, подготовить к неминуемой разлуке с нами. Очень просим Тебя! А мы… мы запомним эти врата и будем жить, представляя те испытания, которые неминуемо встретят нас в Твоих чертогах.
Создатель снисходительно посмотрел на детей, пожалел их родителей и сказал:
– Хорошо, будь по-вашему. Испытания от вас никуда не уйдут. Ваши отец и мать со вчерашнего дня оплакивают вас, рыдают и горюют, но сегодня вы уже будете вместе с ними. В Моей воле сделать так, чтобы вы забыли все, что здесь увидели и узнали, а в вашей – выполнить то, что обещали Мне. Благословение Мое да будет с вами!
Создатель зажег над детьми две серебристые звезды; два сребристых Ангела подставили им свои крылья, отнесли их на заброшенный остров посреди моря и оставили спящими на каменистом берегу. Вскоре над островом появился вертолет спасательной службы. Как же сразу-то не заметили?! На материк передали, что двое из пропавших в морской пучине отыскались. К вечеру детей доставили в большой город – и нужно ли описывать радость встречи с родителями?
Все четверо были вне себя от счастья! Еще бы – не быть…
Всех четверых, едва они пережили радость встречи, принялись непрестанно показывать по разным телеканалам, их портреты не сходили со страниц газет и журналов, их счастливые лица мелькали в рекламных проспектах. Молва о чудесном спасении детей дошла до всех уголков мира и долго еще продолжалась в рассказах и пересудах людей. Наконец суета вокруг спасения прошла, газетная и телевизионная трескотня утихла, шумиха улеглась, и семью предоставили самой себе.
Прошло лето, начался новый трудовой год у родителей, новый учебный год – у детей. Дальше ничего особенного не происходило.
Только неприятный осадок от того круиза остался навсегда.
Прошел год и еще один год.
Все следовало как обычно, и казалось, что так и будет продолжаться. Но вот однажды, когда родители ехали на машине в соседний город по очень важным делам, отец превысил дозволенную скорость. Машина потеряла управление на резком повороте шоссе и... покореженная и разбитая, с вывернутыми дверцами, она уже дымилась внизу, в двадцати метрах от ограждения дороги, а неподвижные, изувеченные тела мужчины и женщины, вывалившиеся из машины, лежали рядом…
Над ними зажглись две золотистые звезды, появились два золотистых Ангела и отнесли их прямо в Царство к Создателю.
Родители огляделись и увидели, что они находятся на золотистой полянке с золотистыми цветами и такими же ослепительно сверкающими деревьями по краям. Ангелы указали им тропинку, и родители пошли по ней, повторяя недавний путь своих детей, но не догадываясь об этом. Так же они подошли к высокому сияющему золотистому трону, на котором восседал Создатель света и всего живого и неживого.
– Подойдите поближе, – сказал Он, вставая с трона и спускаясь к ним. Мужчина и женщина подошли, ощущая освобождение от боли, испытанной в жизни. – Ваша земная жизнь закончилась, и осталось пройти последнее испытание. Следуйте за Мной, не отставайте.
Создатель в окружении дивных Ангелов и других прекрасных небесных созданий повел их по золотистой дороге. Изумительное пение этих созданий, ароматы цветов и других диковинных растений сопровождали людей до тех пор, пока те не оказались перед неожиданным препятствием, выросшим на пути.
– Что это? – спросили они, с удивлением рассматривая высокие, но неширокие ворота, которые оплел отцветший невзрачный шиповник.
– Это – врата, через которые надо пройти, чтобы попасть в Мой сад, где будете пребывать до тех пор, пока Я не распоряжусь вами по Своему усмотрению. Оставляю вас обоих перед вратами, дабы вы прошли все испытания, которые заслужили. Когда попадете в Мой сад, будете пребывать там столько, что вашими словами это называется – «вечно».
– Вечно? – мужчина и женщина, слегка одурманенные пением и ароматами, с трепетом смотрели на Создателя. – Вечно… Нет, прости нас, наш Господь и Создатель, не откажи нам в просьбе! – произнесли оба почти в один голос. – Здесь великолепно, а врата Твои, которые ждут нас... Мы все поняли, только... Мы оставили дома двоих детей, которые просто пропадут без нас. Тебе ведомо, что кроме родителей у них никого не осталось. Там, на Земле, без нас некому будет о них позаботиться. Разреши нам хоть ненадолго вернуться обратно, вырастить детей, дождаться, пока они получат образование. Мы даем Тебе обещание запомнить эти врата и постараемся в жизни не допускать ошибок и грехов, чтобы смягчить те испытания, которые ждут нас в Твоих чертогах. Все в Твоей воле, не откажи нам!
Создатель снисходительно посмотрел на родителей, пожалел их детей и ответил:
– Так и быть. Вашим детям уже сообщили, что вы попали в автокатастрофу, но в каком вы состоянии, они пока не знают. В Моей воле сделать так, чтобы вы забыли все, что здесь увидели и узнали, а в вашей – выполнить все то, что обещали. Сегодня же вы окажетесь там, где дети смогут вас найти завтра. Благословение Мое да будет с вами!
Создатель зажег над мужчиной и женщиной две золотистые звезды; два золотистых Ангела подставили им свои крылья и отнесли их туда, где случилась катастрофа. В ту же минуту подъехала «карета» скорой помощи. Врач и санитары осмотрели пострадавших: раны и переломы пассажиров не опасны для жизни, хотя, по логике вещей, эти двое просто легко отделались, когда другие в подобных случаях… Ну, ладно, скорее в больницу! – и машина увезла их в отделение реанимации.
На другое утро дети примчались в больницу – и через специальное окошечко в стене им разрешили посмотреть на родителей, чтобы убедиться: мама с папой живы. На следующий день мальчика и девочку впустили в палату. С каждым днем родители все быстрее шли на поправку, и через неделю все вместе уже вышли погулять в больничный двор, а через две – вся семья была дома. Радость переполняла их, и, заботясь друг о друге, они постарались как можно скорее прийти в норму – это им удалось. И если бы их оставили в покое, об этом событии фактически напоминала бы только потеря автомобиля, но что он значил в сравнении с жизнями? Однако покоя ждать не пришлось: телевидение и газеты не упустили возможности припомнить, что случилось два года назад и связать тогдашнее счастливое спасение детей с теперешним спасением родителей. Журналисты и телевизионщики замучили семью бестактными вопросами, надоевшими телекамерами, вульгарностью поведения – не давали забыть о случившемся! Кроме того, «двойное чудесное» спасение стало не только сенсацией для всего мира, но и оказалось предметом серьезных научных исследований сразу в нескольких областях науки.
Хорошо это или плохо – другой вопрос.
А что делать виновникам происшествий?
Вся семья просто устала отвечать ученым, неисчислимым комиссиям; их утомили бесконечные тестирования, десятки анкет, какие-то обследования. Дома они уже боялись снимать трубку, когда звонил телефон, – все одно и то же. Родителей донимали на работе: и «доставали» по телефону, и заходили без предупреждения – и к ним, и прямо к начальству; детям не давали проходу, поджидая их на дороге в школу. Сколько это может вообще продолжаться?
Наконец через какое-то время прошла и эта волна.
Родители и дети вздохнули. Они продолжили свои дела, радовались, что остались живы, старались поменьше напоминать друг другу о несчастье. Решили, что рисковать впредь не стоит: никуда больше не поедут – ни на машинах, ни на автобусах, не поплывут – ни на катерах, ни на теплоходах, не полетят – ни на самолетах, ни на вертолетах. Старались жить, избегая опасности, и были правы, потому что каждый день происходило что-то подобное, только с другими людьми.
Прошел год и еще один год.
За это время в мире не прибавлялось спокойствия, и ни заработки родителей, ни послушание детей, ни меры предосторожности не избавили семью от преследующей их беды. Они жили в крупном мегаполисе, в многоэтажном доме, который, к несчастью, подошел для безумных планов террористов, решивших заложить туда мощное взрывное устройство: так одни бандиты задумали отомстить другим, которые на противоположной стороне земного шара плохо соблюдали подписанные друг с другом договоры и постоянно нарушали установленные правила политической игры.
Дом взорвали ночью, когда жильцы спали – осталась только огромная груда бетона, железа, стекла и грязи. Спасти никого не удалось.
…Когда грянул взрыв, родители и дети не успели даже проснуться – и погребенные под развалинами, расстались с жизнью навсегда.
Над ними зажглись четыре радужные звезды, появились четыре Ангела и отнесли их прямо в Царство к Создателю.
Родители и дети очнулись, огляделись и увидели, что они – все вместе; это их порадовало. Они тут же вспомнили, что уже когда-то были поблизости: то ли на серебристой, то ли на золотистой полянке. И теперь кругом было очень красиво, цвели и благоухали радужные цветы, кружились разноцветные звезды, пели прекрасные Ангелы.
Все четверо, родители и дети, подошли к высокому сияющему трону, на котором восседал Создатель света и всего живого и неживого.
– Подойдите поближе, – сказал Он, вставая со Своего трона и спускаясь к ним. Люди подошли к Нему, ощущая легкость движений и свободу дыхания. – Ваша земная жизнь закончилась, и теперь вам предстоит пройти те испытания, которые она предопределила. Следуйте за Мной, не отставайте.
Создатель в окружении небесных созданий повел их по радужной дороге – к тем вратам, обойти которые было невозможно.
– Что это? – спросили люди, когда путь им преградили высокие, но чрезвычайно узкие ворота, все в жестких, как проволока, шипах.
– Врата, через которые вам надо пройти, чтобы попасть в Мой сад.
Мать и отец переглянулись и робко возразили Создателю:
– Но это не те врата, которые были в прошлый раз!
Дети, увидев, как остры щипы, также все вспомнили – и добавили:
– Мы тоже запомнили другое!
Создатель отвечал:
– Каждого из пришедших сюда встречают те испытания, которые он заслужил своей земной жизнью. Все проходят свои врата сами, а врата – соответствуют поступками и мыслям при жизни. За тот земной срок, что Я добавил вам, каждый из вас мог исправить прошлые ошибки, не совершать новых, стараться делать добрые дела. Видно, вы все, все четверо, так и не воспользовались той возможностью, которую Я дал вам. Поэтому вы видите одно и то же: так схожи ваши врата, а вас самих ждут уже более серьезные испытания, нежели в предыдущий раз. Перед тем, как начнете проходить врата, вспомните, какие проступки совершили за всю жизнь и особенно за последний срок, дарованный Мною, и все поймете.
Отец, конечно, тут же подумал о вкладчиках, разоренных их банком; с горечью осознал свою косвенную роль в этой махинации, хотя сразу не придавал этому особого значения – подумаешь, пострадали чужие люди!
Мать вспомнила о поддельных страховых полисах, которые выдала нескольким сотням пациентов их медицинская компания; она лично потом отказывалась лечить тех, кто обращался к ним с теми полисами.
Сыну пришло на ум: полгода назад он бросил в беде своего лучшего друга, которого же и соблазнил неприглядными делами, из баловства затащив в зал игровых автоматов, где они проиграли много денег, а сам сумел улизнуть. Последствия-то оказались нешуточными.
А дочь словно наяву увидела, как не однажды обманывала любимую учительницу, пользуясь ее доверием, а особенно некрасиво – неделю назад, на итоговой полугодовой контрольной: сдала списанное сочинение и получила высший балл, необходимый позарез; без такой оценки нечего было и рассчитывать на вторую ступень колледжа.
...Создатель смотрел на этих людей, как на других таких же, приходящих к Его вратам век за веком, тысячелетие за тысячелетием. Он просвечивал их насквозь, видел, что люди все увеличивают и увеличивают тяжесть своих грехов, поэтому и врата перед входом в Его сад становятся все теснее и уже, а шипы на них – все длиннее и острее…
Создатель оставил Своих детей перед вратами, а Сам ушел, окруженный Ангелами и звездами.
Его ждали небесные дела и следующие пришельцы из земного мира.
* * *
Если кто-то из моих читателей подумал, что это просто сказка, пусть вспомнит ее, когда сам окажется перед теми же вратами...

Когда находишь в радости другого собственную радость, а в горестях другого видишь собственное горе, то это и означает любовь…
Дорога уходила все дальше в лес, из широкой и неровной она превращалась в узенькую тропку. Каждый раз, когда Костик заходил в этот давно знакомый лес, он как будто попадал в сказку природы. Лес словно приглашал в чащу, раскрывался своей удивительной жизнью. Высокие деревья казались добродушными хозяевами-исполинами обширных владений, кустарники обрамляли эти владения. Птицы хлопотали в листве деревьев; шмели весело жужжали, утопая в нежной зелени кустов; бабочки мельтешили над лесными полянками, щедро усыпанными цветами. Красиво! Мальчик шел по тропинке, не торопясь, часто останавливался и оглядывался, любовался растениями, вслушивался в музыку леса. Нет, надо спешить: солнышко уже высоко, а корзинку земляники так и не набрал.
Тропинка сворачивала на широкую поляну, и Костик вспомнил, что в прошлом году там было много земляники, как раз над большим оврагом, и вдоль оврага по краю малинника встречалась крупные ягоды. Он прибавил шагу – вот она, та полянка. Да, земляничка хороша! Увлекшись сбором земляники, мальчик не заметил, как все дальше удаляется от поляны, спускаясь в овраг. Вдруг нечаянно споткнулся – и кувырком скатился куда-то вниз. Поднявшись на ноги, понял, что не ушибся. Схватился за голову: где же панамка? А корзинка с ягодами? А сам куда попал? Огляделся – понял, что угодил в большой овраг, да еще и как глубоко! Как же быть? Только хотел сообразить, что делать дальше, как услышал, что кто-то тоненько пищит, но не птица или зверь, а вроде как зовет слабеньким человеческим голоском.
Нет, Костик почти не испугался. Он был смелым, иначе бы не решился пойти в лес в одиночку. Может, показалось… Но тот же голосок послышался снова, только теперь застонали еще тише.
– Кто меня зовет? – громко спросил Костик, чтобы просыпающийся страх не сумел победить его смелость. – Кто здесь?
Ответа не услышал, но стон повторился опять и опять. Тогда он принялся раздвигать руками ветви кустарника и высокие стебли влажной травы. Стон приблизился, стал более явным. Костик не отступал и добрался до цели – возле большого валуна он увидел свою полупустую корзинку: лежит на боку, а ягоды вывалились прямо в крапиву. Мальчик нагнулся пониже, принялся их собирать. Вдруг услышал тот же самый стон, на этот раз совсем близко, словно кто-то вздыхал прямо под ухом, из зарослей крапивы. Костик подобрал валявшуюся ветку, стал пригибать крапиву, продвигаясь вперед, в ту сторону, откуда шел звук.
– Ох, ой, о-о-о-й! – слышалось уже совсем громко. Костик бросил ветку, снял короткую рубашонку, накинул ее на упрямые стебли крапивы, стал приминать их, не считаясь с колючими укусами, чтобы дело пошло скорее. Коленки уже горели, как посыпанные черным перцем, но он не обращал на них внимания.
– Кто там, отвечайте! – крикнул Костик, и… чуть не упал на старый, видимо, еще прошлогодний пенек. Отец Костика был дровосеком, поэтому в пеньках и деревьях Костик разбирался. Но что это, вернее, кто это? Из верхней расщелины в пеньке, оставшейся от удара топором, торчали две маленькие ножки в малюсеньких деревянных башмачках, из нижней – высовывались две малюсенькие ручки и голова человечка, который и всего-то был… не больше спичечного коробка.
– Ох, ой, о-о-о-й! – не переставало плакать и стонать это существо, несмотря на то, что помощь уже пришла.
Костик бросил рубашонку на траву, разросшуюся возле основания пенька, наступил на нее ногами, потом – коленками, нагнулся, оттянул большую щепу со всей силой, какая была в руках, и осторожно вытащил человечка. Так же осторожно посадил его на пенек, давая прийти в себя. Человечек уже не стонал, а во все глаза смотрел на мальчика, потирая и разминая малюсенькие ручки и ножки. Костик не знал, чем еще помочь ему, боялся даже дотрагиваться, чтобы не причинить вреда, и в нерешительности стоял рядом. Наконец набрался духу и спросил:
– Ты кто?
– Ты меня не узнал? Я – гном, зовут меня Буль. – Человечек уже удобно сидел на пеньке, устроившись на самом краешке и перекинув ножку за ножку. – А кто ты, и как тебя зовут?
– Меня зову Костик, живу я в деревне Дубочки и… никогда в жизни не видел гномов, а только слышал о них, – сказал мальчик, не переставая удивляться. – Так вот они какие, оказывается!
Оба с интересом рассматривали друг друга, особенно Костик: глядя на маленького человечка, он припоминал те сказки, в которых рассказывалось о гномах – вспомнил несколько... А Буль тем временем приободрился, отряхнулся, стараясь выглядеть как можно лучше, словно был… артистом. Он улыбнулся, как показалось Костику, комически и тут же спустился вниз, на траву. Пошарил вокруг, нырнул под вылезающие из земли корни пенька и достал оттуда малюсенький (правда, смятый), ярко-розовый колпачок. Расправил его и надел.
– Ну, как я? – спросил он у Костика:
– Настоящий артист! – в восхищении ответил Костик.
– А что такое «артист»? – спросил Буль.
– Разве ты не знаешь?
– Нет, – ответил Буль. – Ведь я еще маленький и об артистах ничего не слышал.
Костик задумался о том, как объяснить Булю про артистов, – понял, что малышка Буль и телевизора в глаза не видел, а сам Костик представлял артистов в основном по телепередачам. Тогда мальчик спросил:
– А петь, танцевать, баловаться ты ведь умеешь?
Буль словно ждал этого вопроса, и в ответ так и затараторил, подпрыгивая на каждом слове:
– Еще как, еще как! Ведь мне, признаться честно, только это и нравится! Ужасно люблю устраивать всякие безобразия с жучками, с муравьишками, стрекозами! А ты меня спроси, спроси, как я… ну, как я оказался в таком положении… ну, застрял в пеньке? Мы тут устроили целую возню, на пеньке, и я поспорил с ежиком, что достану клад из-под этого самого пенечка. А ежик Жик с лягушонком Кваком только посмеивались надо мной: не верили, что там есть клад и что я его достану. Представляешь?
– Ну и как? Достал? – все больше удивлялся Костик.
Буль сразу же опечалился и отрицательно покачал головой:
– Нет, как видишь, нет… Полез я за этим «кладом», угодил в ловушку, да и застрял там – они пытались меня вытаскивать, как только могли, но у них ничего не получалось. – Буль заранее решил, что плакать ни за что не будет. – Квакать и смеяться – это, знаешь ли, просто, а помочь в беде гораздо труднее!
– Что же, твои приятели просто бросили тебя? – возмутился Костик.
– Нет, что ты, нет! – Буль умилительно прижал маленькие ручки к груди. – Оба дергали меня туда-сюда, сто раз пытались оторвать эту щепу, даже описать невозможно, что тут было, но Жику мешали его иголки, а Кваку не хватало сноровки, да и ухватиться за него невозможно – он такой скользкий! Они обещали поискать кого-нибудь, кто помог бы мне, но до сих пор, видно, не нашли… И если не ты, мне еще долго пришлось бы томиться в таком… неудобном положении. Спасибо тебе, мальчик Костик, ведь… – Буль замялся и, припоминая, что следует сказать в таких случаях, произнес: – Я… я… вот что: я тебя отблагодарю!
Костику стало неловко и смешно одновременно, и он ответил:
– Ну что ты, Буль! Так вышло, что мне удалось помочь тебе. Думаю, что и ты без раздумий бросился бы выручать своих друзей и вообще всех, кто нуждался бы в твоей помощи.
– О, дорогой Костик! – воскликнул расчувствовавшийся Буль и попытался забраться на сандалик Костика, чтобы оказаться как можно ближе к сердцу мальчика. Костик нагнулся и посадил гнома себе на ладошку, разглядывая необычное существо и умиляясь его речам.
Буль, устроившись и тут, продолжал с серьезностью:
– Костик, я тебе очень благодарен, но ты еще не знаешь, что такое благодарность гномов. Мы, гномы, очень внимательны к чувствам друг друга и всех, кто живет в нашем лесу. Стараемся дружить и ладить со всеми, кто весел и добр. Людей обходим стороной, потому что… – Буль опять смутился и сбился… – Ты знаешь, я не очень хорошо объясняю тебе правила, по которым живут гномы нашего лесного рода, потому что я и сам еще – очень маленький. Знаешь, я – самый младший в семье. Нас трое братьев: Буль – это я, Гуль – средний и Муль – самый старший из нас. А у тебя есть братья?
– Никого у меня нет, – грустно отозвался Костик, опуская Буля на землю. – Моя мама умерла недавно, а отец еще раньше уехал в город на заработки. Мы с мамочкой ждали-ждали, а его все нет и нет. Так до сих пор и не вернулся. Даже о маминой смерти он не знает…
От огорчения Буль растерялся, не сразу нашел, что ответить, но его слезы стали ответом. Да, непросто быть человеком, да еще таким маленьким и несчастным! Как нескладно устроен мир людей...
– Понимаешь ли, малыш, – вытирая слезы, проговорил Буль, – у гномов все иначе, но горе везде одинаково. А сколько тебе лет?
– Скоро шесть, – ответил Костик, готовый и сам заплакать оттого, что встретил неожиданное понимание там, где и не думал. – А тебе?
– Мне? – с готовностью откликнулся Буль, улыбаясь сквозь слезы – словно настоящий артист. – Мне – сто, Гулю – двести, а Булю – триста. Это что! Нашим папочке и мамочке – по тысяче лет. Представляешь?
– Неужели так может быть? – протянул Костик недоуменно.
– Еще и как может! – улыбнулся Буль. Он ужасно обрадовался, что сумел отвлечь мальчика от горестных дум. – А нашей тетушке Веруле и дядюшке Никулю по тысяче с лишним, и ничего – оба как молодые. Мы иногда ходим к ним в гости, в соседний лес, это к востоку от ваших Дубочков. Там живут и наши бабушки и дедушки, а уж сколько им лет, даже не спрашивай, я пока не умею считать до… – Тут Буль опять запнулся. – Ну, я еще маленький, мне простительно! А бабушка Тантилла – та настолько давно привыкла скрывать свой возраст, что, наверное, и сама уже забыла, сколько ей лет! – Буль так и залился звонким хохотом, и Костику ничего не оставалось, как засмеяться вместе с ним.
Неожиданно Буль вспомнил что-то неприятное, даже помрачнел при этом и словно перестал быть артистом. Нахмурился и сказал Костику:
– Ну, смех смехом, но пора подумать вот о чем – о возвращении. Сначала подними-ка свою одежду, отряхни панамку и скорее оденься, а то простудишься. Вот так, поспеши, а то – время не ждет.
Костик подумал, что и в самом деле следует одеться. Он вытряхнул рубашечку, надел ее, немного вздрагивая на прохладном ветерке. Вместе с Булем собрали в корзинку рассыпанные ягоды. Нужно выкарабкаться из оврага наверх, поближе к солнечному теплу. Но куда идти потом?
Когда они уже были наверху, Буль обрадовался, улыбнулся:
– Ты не волнуйся, теперь мы не пропадем. Дальше я дорогу знаю.
Они прошли по крутой тропке на ту самую полянку, откуда Костик свалился прямо на голову Булю. Теперь они оба могли вполне успокоиться: дальше дорогу знают! Буль немедленно кинулся вперед, ловко и безошибочно выбирая путь. Его розовый колпачок то пропадал в густой траве, то появлялся на косогоре:
– Костик, Костик, иди сюда, тут море земляники, правда, я никогда не видел моря, но думаю, что это оно и есть!
То-то раздолье! Кувыркались, валялись в траве, лакомились земляникой, любовались серебристыми стрекозами, нюхали нежные фиалки. Корзинка Костика уже наполнилась доверху. Небо было ясным и чистым, но солнышко начинало клониться к закату.
Все, хватит резвиться, пора домой.
– Мне пора, – сказал Костик, поправляя панамку.
– И мне пора, тем более, что… – Буль неожиданно умолк. – Понимаешь, Костик, мне полагалось вернуться домой еще вчера, но ты же знаешь, что меня задержало. – Буль почесал малюсенький затылок, сдвинув набок колпачок. – Теперь меня ждет встреча с братьями. Не хочу сказать, что мне «всыплют» за такую долгую отлучку, только и по головке не погладят. – Он элегантно снял свой колпачок и поклонился Костику. – Благодарю еще раз от всей души и приглашаю к нам в гости, причем немедленно, потому что обязан познакомить моих братьев с тобой, моим освободителем. Такие у нас, гномов, правила. Наш домик уже близко, и если мы поторопимся, то через… – как у людей считают время? – Словом, минут… через десять будем на месте. Не возражаешь?
Костик не успел ответить, как Буль уже кричал, обогнув семейство глазастых мухоморов и убежав за кусты жимолости:
– Скорей, не отставай, не будем терять время!
Казалось, что птицы щебетали вокруг молоденьких елочек:
– Чир, чир, чир! Не теряйте время!
Пронырнувший мимо зайчонок задел хвостиком стебельки колокольчиков, и цветки тоненько прозвонили:
– Динь, динь, динь! Не теряйте время!
Скользнувшая за муравейник ящерка сухо прошелестела:
– Шур, шур, шур! Не теряйте время!
***
Они завернули за дубовую рощицу, за семейку молодых дубков – там как раз начиналась прямая дорога в деревню, где жил Костик. «Наверное, деревню и назвали Дубочками потому, что рядом много дубов», – думал Костик всякий раз, когда оказывался рядом, и дубы шумели листвою в ответ, подтверждая догадку мальчика. Костик любил бегать сюда с деревенскими ребятами: и летом, и зимой не было лучшего места для веселых игр, катанья на лыжах.
Да и с папой ходили, и с мамочкой... И зачем вспоминать теперь?
Только куда его ведет торопыга Буль?
– Долго еще? – спросил Костик у гнома, почти не сбавлявшего скорости. – Ну и быстро ты бежишь, прямо летишь, а говорил, что маленький. Я едва успеваю за тобой! Разве ты не устал?
– Ой, столетняя моя голова! – опомнился Буль и сбавил ход. – Как же я забыл, что человеческие дети быстро устают, а взрослые еще быстрее? Просто я и вправду пока еще маленький, и не все правила вежливости выучил, не все повадки зверей и людей знаю, не все законы природы помню. Ну, хочешь, передохнем, да тут уже близко осталось. Вон, видишь: направо, не доходя до речки – лужайка, а сбоку от нее – большая сосна. Видишь? Рядом с ней – наш дом.
– Ладно, не будем терять время, – согласился Костик. Буль уже не летел вперед сломя голову, а шел умеренным шагом, почти не удаляясь в сторону, собирая между делом какие-то травинки, лепесточки, корешки. – Что ты делаешь, зачем?
– Как зачем? – на ходу отвечал Буль. – Это лечебные растения. Придем домой и заварим их вместе с сухой хвоей: хорошо усталость снимают.
– Почему же с сухой, ведь и свежей полно? – удивился Костик. Ему не приходилось собирать лечебные растения, он только видел, как мама приносила свежие травы и цветы, а потом просушивала их на веранде.
– Но те, сухие-то иголки – из другого леса, еще в прошлом году в определенное время собраны, забыл, в какое, – рассуждал Буль по-взрослому. – Зимой заварим, добавим туда медку, а потом… а затем...
– А затем спросим: где же ты был столько времени, братишка, и кого ведешь с собой? – вдруг прозвучал чей-то резкий голос почти из-под ног Костика – тот от неожиданности чуть не свалился, резко остановившись. Мальчик присмотрелся и увидел на обочине дорожки гнома, очень похожего на Буля, только колпачок у него был ярко-желтый. Буль тут же повернул голову на звук – с радостью подбежал к только что появившемуся гному, бросился на шею.
– Здравствуй, дорогой Гуль! – воскликнул Буль, не давая никому вымолвить ни слова. – Я тебе сейчас все объясню. Это – Костик, а это – мой братик Гуль. Как я рад, что вы познакомитесь!
Буль наскоро пересказал Гулю историю своего исчезновения и освобождения, на что тот отвечал строго:
– Этого и следовало ожидать, ведь сколько раз тебя предупреждали: будь осторожнее, да ты и слушать не хотел! Мы с Мулем сначала не очень волновались, но потом видим, дела плохи. Только собрались на поиски, как ты нашелся сам или не совсем сам. – Гуль обратился к Костику. – А ты, Костик, по-настоящему смелый мальчик. Ты выручил нашего малыша-Бульчонка, и мы тебе очень благодарны. Очень! Пожалуйста, идем с нами. Не бойся, мы тебя надолго не задержим.
– Хорошо, – в который раз за этот день согласился Костик, и с грустью подумал, что, когда он ни вернись домой, его ждать некому, кроме кота Барсика и дворняжки Лайки.
Теперь уже два маленьких гнома шли впереди мальчика, и ему приходилось поспешать за ними. Раз, два, три – и они уже возле большой сосны, о которой говорил Буль. Гуль сказал:
– Вот здесь мы и живем. Заходи в наш дом, Костик.
Костик изумленно огляделся по сторонам: солнце висело над верхушками деревьев, освещая всю изумрудную лужайку целиком, осыпая золотом сосну, стоящую, как страж в сверкающих рыцарских уборах. Цветы, насекомые, растения – вроде такие же, как везде, но… Все говорило о чем-то необычном – Костику показалось, что он здесь был недавно, только позавчера, но всей этой красоты не замечал.
И где же дом? Никакого дома не было видно.
– Погляди сюда, Костик, – позвал Гуль, исчезнув под большим лопухом. Костик нагнулся и… увидел настоящую, только очень маленькую избушку, с резными окошечками, с трехъярусной крышей и трубой, с дверцей и крылечком… И вся избушка – не больше футбольного мяча, каким они с приятелями гоняли на улице! Гуль уже стоял на пороге, приглашая Костика жестом. Буль поднялся по миниатюрным ступенькам, встал возле двери, дергая за звоночек. Тотчас же дверь распахнулась, и на маленьком порожке показался… еще один гном, очень похожий на двух первых. Стоит ли говорить, что Костик уже догадался: это – третий гном, Муль, которому триста лет, старший брат Буля и Гуля!
Муль, как старший брат, проявил большую выдержку, чтобы на пороге собственного дома не уточнять, кого же в гости привели его младшие, не столь разумные, как он сам, братишки. Муль считал себя мудрым и разумным: он прожил на свете гораздо дольше своих братьев и знал, что от людей можно ждать чего угодно. Но раз гость уже на пороге…
Муль повторил приглашение самым вежливым образом.
– Но как же мне войти? Ведь в вашем доме даже… мой сандалик не поместится! – с отчаянием выпалил Костик, отставляя в сторонку полную корзинку. – Что же делать?
– Не стоит огорчаться, дружок, – мягко успокоил его Муль. – Не припомню такого случая, чтобы те, кого мы от души приглашали, не смогли «поместиться» в нашем доме. Наш мир разумен и прост. Все наши гости должны считаться с нашими законами и правилами. Главное, чтобы к нам приходили только те, у кого доброе сердце и честные намерения. Уже понятно, что ты не замышляешь ничего дурного, поэтому повтори за мной одно коротенькое четверостишье; мы, гномы учим его на третьем году лесной школы. Эти строчки нужно знать наизусть с тем, чтобы научить им своих новых друзей или тех, кто заслуживает доверия. Только произнеся эти слова, гость может войти в дом, не нарушая законов и правил нашего мира. Ты понял, о чем я говорю? Обещаешь ли соблюдать наши условия?
Костик опять смутился, уже десятый раз за этот день, но, поскольку был смелым, ответил решительно:
– Я все понял. Обещаю соблюдать. Никому ничего плохого не желаю.
– Тогда повторяй, – велел Муль:
Здравствуйте, гномы, друзья и родня,
В мир незнакомый впустите меня.
Я никого не хочу обижать
И обещаю ваш мир уважать!
– Какое простое стихотворение! – обрадовался Костик. – И я его уже запомнил! – он уверенно повторил эти слова и… тут же уменьшился до размеров самих гномов, чему несказанно удивился: – Ой! – он посмотрел на свою корзинку – и не узнал: она моментально выросла в размерах и стала как огромная плетеная изба, а ягоды – с арбуз!
Таких чудес и в детских телепередачах не показывали!
– Не бойся, – улыбались братья-гномы, а малыш Буль (ой, и вправду, самый маленький из… нас, то есть из всех!) уже тянул Костика за руку на ступеньки, а потом в дом. Никогда бы в жизни Костик не догадался, что у гномов есть домики, да еще такие миленькие! В прихожей, на вешалке, висят три разноцветные курточки: розовая, желтая и синяя. Над ними – только один колпачок, синего цвета. «Это – шапочка Муля», – догадался Костик и оказался прав: Буль и Гуль тут же повесили свои шапочки по местам. Затем все трое сняли башмачки, поставили их в один ряд под лавочку, расправили сбившийся половичок. Аккуратные! Костик пристроил туда же свои сандалики. В прихожей витал тонкий аромат трав и растений, висевших сухими пучками на стенке, за которой находилась кухня.
– Так травы скорее сохнут, – объяснил Гуль перед тем, как провести Костика по уютным и опрятным комнаткам. – Моя обязанность – заведовать библиотекой, хранить старые книги, соблюдать традиции нашей семьи, изучать старинные методы лечения; также я слежу, чтобы трав хватало на целый год и к тому же чтобы они были хорошими. Вот, например, посмотрим, что сегодня нам принес Буль, и пусть не оправдывается, что маленький и не запомнил, чему я его учил: половина собранных им трав никуда не годится, к сожалению. Ладно, мы потом поговорим… – При этих словах Буль несколько стушевался, но ненадолго. – Муль у нас – главный в доме. Он следит за хозяйством: за содержанием помещения, за тем, чтобы стены не расшатывались, крыша не протекала, окна не сквозили, чтобы продуктов хватало. Когда Буль подрастет и наберется ума-разума, он будет отвечать за приготовление пищи, за состояние одежды, а пока он только учится всему этому. А чистим, моем, стираем, убираем – все сообща и без конца.
Костик оглядел кухню, комнаты, надолго задержался в комнате Гуля: в посудном шкафчике стояла простая, но изящная глиняная посуда. На книжных полках ровненькими рядочками расположились книги. По корешкам было заметно, что некоторые из них очень старые, другие – поновее. Когда зашли в гостиный зальчик, Костику понравилось, что по стенам висят портреты гномов, пейзажи и натюрморты.
– Это – наши предки, – пояснил Гуль. – А напротив – наши рисунки.
Все вокруг дышало чистотой… У Костика даже дыхание перехватило при виде того уюта, того идеального порядка, которые он увидел в жилище своих новых друзей. Подумать только, сколько сил и времени нужно потратить на это! Опять с грустью вспомнил, как у него в доме все запущено: не то, что гостей приглашать, а самому находиться неприятно. Вот когда была жива мама… «Ладно, когда вернусь, – подумал он, – сразу же начну наводить порядок!»
Гостя проводили к умывальнику, а потом усадили за стол.
– Тебе нравится у нас? – спросили гномы в один голос.
– Очень, очень нравится! – воскликнул Костик. – Вы такие трудяги, просто молодцы, не то, что я… – Костику захотелось расплакаться.
– Пожалуйста, дорогой Костик, успокойся, – остановил его Муль. – все не могут жить одинаково, и не стоит расстраиваться по этому поводу... И хочу сказать, что и ты оказался молодцом! Пока вы беседовали с Гулем, Бульчонок уже доложил мне о том, что с ним произошло в овраге – и знаешь, что? Наверное, случившееся с ним – не самое страшное в жизни, только хотел бы я взглянуть на ежика и лягушонка, которые не удосужились передать мне или еще кому-нибудь чтобы Булю прислали помощь! В лесной школе это проходят в первый год обучения… Благодарим тебя от души, дорогой Костик. Мы – твои должники. Ты очень помог малышу, и еще не известно, чем бы дело кончилось, окажись рядом, например, шальная гадюка или разъяренная крыса…
Тут малыш Буль, Бульчонок, давно позабывший об опасности, которая ему еще недавно грозила, вскочил прямо из-за стола и, полный радости, стал пританцовывать, потом ходить колесом, припевая:
Все прошло, никого не боюсь,
Потому я теперь веселюсь!
Веселюсь, веселюсь, веселюсь,
От веселья пою и кружусь!
– Ну и артист, настоящий артист! – снова произнес Костик, не пытаясь сдерживать улыбку. Гуль и Буль снисходительно смотрели на младшего брата, прощая ему его «актерский выход» не по этикету. Они любили своего братишку, знали, какой он шаловливый и увлекающийся. Хорошо, что все обошлось! Муль сказал наконец:
– Все же давайте обедать, чтобы не томить дорогого гостя. Продолжу приятную тему: Гуль недавно говорил о травах, а я расскажу о нашей еде, это будет уместно к трапезе. С точки зрения людей, у нас необычные блюда. Людям они могут показаться не совсем вкусными, но для нас важнее их полезность – для поддержания здоровья. Готовить такие блюда – целое искусство. Скажу тебе, Костик, что в каждое кушанье мы вложили особый смысл, например: в салате из корешков репейника – корень братства, в ореховом торте – крепость дружбы, в компоте из шиповника – чистота и ясность помыслов. Так тысячелетиями гномы оберегают себя от болезней, от несчастий, от разъедающего тления… – как бы это выразиться по-вашему? – равнодушия или зависти. Понимаешь?
– Конечно, – сказал Костик. – Я вас отлично понимаю, хотя еще не учился ни в какой школе, тем более – в лесной. Ваша еда красиво выглядит и очень вкусно пахнет.
– Так угощайся, пожалуйста!
Костику показалось, что он ничего приятнее еще не кушал, кроме, конечно, маминых пирожков с капустой или с ягодами, но что об этом вспоминать… Вот скоро подрастет, научится чему-нибудь хорошему, а потом… Хоть бы не расплакаться! Но, отпивая глоток за глотком, уплетая ложку за ложкой, Костик почувствовал, что слезы отступили далеко, тоска уходит, а на душе становится светлее. Гномы смотрели на него одобрительно. На сладкое ели торт, потом пили мятный чай. Очень вкусно! Костик поблагодарил за угощение, а в душе не уставал умиляться всему, что увидел и отведал только что. В конце обеда Муль добавил, что летом замечательно обедается и на свежем воздухе, а зимой – только дома.
– Скажите: а как вы проводите свободное время? – спросил Костик, имея в виду развлечения и игры.
– Свободное? Свободное – от обязанностей? – гномы переглянулись между собой, и Костик решил, что они не поняли его вопрос.
Конечно, гномы поняли, но по-своему.
– Самая вольная пора – у младших гномов, пока те не подрастут, а затем жизнь потребует исполнения обязанностей, о них мы уже вспоминали, и замечу, что обязанности нас не тяготят, – ответил за всех троих Гуль. – В оставшееся время занимаемся творчеством, как видишь: рисуем, танцуем, поем, мастерим разные поделки. Летом свободного времени гораздо меньше, а зимой – больше, почти как у людей.
Костик понимающе кивал головой, размышляя о жизни гномов, все более находя в ней общего с человеческой… Еще долго можно было бы разговаривать друг с другом, но время не позволяло.
– Уже становится поздно, – наконец сказал мальчику Муль, – и мы не можем дольше задерживать тебя. Теперь осталось только одно: спросить, есть ли у тебя сокровенное желание – и какое? Мы в долгу перед тобой не останемся и постараемся исполнить его, если сможем.
Костик ответил, уже не чувствуя той горечи, с которой вошел в этот дом:
– Есть у меня желание, конечно, есть. Только я знаю, что оно – невыполнимое, поэтому и не буду его называть.
Тут малыш Буль не выдержал и выпалил то, что узнал от Костика еще в овраге, в самом начале их удивительного знакомства. Да мудрый Муль, переглядываясь с Гулем, уже давно догадался обо всем… Спросил:
– С кем же ты живешь?
– Приезжала ко мне бабушка, мамина мама, хотела забрать с собой, да вдруг заболела так, что ее саму в больницу увезли, – неохотно отвечал Костик. – Ничего, соседи обещали, что присмотрят за мной, пока бабушка не поправится. Так что мы живем втроем – я, кот Барсик и собака Лайка: она – в будке, во дворе, охраняет меня и весь дом.
Гномы обрадовались, что Костик не считает себя совсем одиноким. Муль подошел к нему, улыбнулся и обнял крепко.
– Да ты, братец, не горюй, и не такое бывает у людей, как, впрочем, и у гномов… Помочь мы тебе попробуем, допустим, не сразу… И запомни: ты всегда можешь рассчитывать на нас. Дорогу сюда человеку трудно найти, без проводника не обойтись. Но если понадобится наша помощь или захочешь послать нам весточку, а то и какой-нибудь сигнал, приходи к трем большим дубам – знаешь, которые на краю дубовой рощи, у излучины реки? В стволе крайнего дуба есть низкое, широкое дупло. Можешь оставить там, например, записочку для нас, а мы уж сами дальше разберемся. Это очень близко от деревни – приходи утром или днем, только не вечером, чтобы тебе страшно не было. Договорились?
– Ладно, – отвечал Костик.
Гномы проводили мальчика в прихожую, где он обул свои сандалики, надел панамку. Гномы стояли, улыбаясь, ждали, когда он будет готов.
– А теперь, Костик, скажи:
Добрые гномы, друзья и родня,
С миром домой отпустите меня!
– Очень правильные слова, – согласился Костик и повторил их. Не успел закончить фразу, как… оказался на изумрудной лужайке и вырос до нормальных размеров, чему приятно удивился. А в то же время гномы с огромной скоростью уменьшились, снова превратившись в малюток, которых в темноте ни за что не заметить.
Они вышли на порог домика, махая шапочками в знак прощания.
– До свидания! – крикнул мальчик, Буль и Муль крикнули то же самое в ответ, а Гуль тут же предложил проводить Костика до дома. Костик сильно отнекивался, хотя в лесу заметно стемнело. Но все уже было решено, и отказ не принимался: Гуль двинулся вперед, обгоняя мальчика и указывая ему путь. Костик, подхватив корзинку с ягодами, еще раз попрощался с остальными.
Отойдя на два шага, Костик обернулся: домика словно и не было…
***
Гуль с мальчиком пришли в дубовую рощу, к тем трем большим дубам, стоящим особняком у излучины реки, о которых говорил брат Муль.
– Ты здесь бывал? – спросил Гуль у Костика.
– Конечно, – ответил тот, – мы сюда с ребятами купаться ходим, только чуть-чуть левее. Дальше меня можно не провожать. Я запомнил все ваши напутствия, а дорогу домой знаю, дойду сам.
– Хорошо, – согласился Гуль. – Ты на меня внимания не обращай. В деревне нам делать нечего, поэтому еще пройдусь немного, составлю тебе компанию и вернусь обратно. Спасибо тебе. Будь здоров, малыш!
Костик наклонился пониже:
– До свидания, милый Гуль, я вас не забуду!
И Костик припустил домой, прибавляя шагу. Он спешил не зря: темнело все быстрее. Вот и родная деревня! По знакомой улочке возвращались домой запоздалые соседи, издалека раздавалось мычание коров, во дворах лаяли собаки, в домах уже зажигался свет. Отпирая свою калитку, Костик чуть было не рассыпал ягоды. Сразу поставил корзинку на поленницу дров, чтобы не уронить нечаянно. Лайка успела задремать, но на первый же звук выбежала из будки. Она радостно лаяла и прыгала, облизала все сандалики Костика. Он увидел, что рядом с миской лежат обглоданные кости, значит, приходила соседка, тетя Матрона, приносила еду собаке, как обещала. Хорошо! Барсик сидел на высоких перильцах крыльца, аппетитно облизываясь. Блюдечко, стоящее в углу на веранде, было отодвинуто к стенке – ага, значит, тетушка Матрона не забыла и Барсика, налила ему молочка. Костик так устал, что ему едва хватило сил раздеться, умыться и добраться до постели.
Мальчик уснул, как только голова коснулась подушки…
Солнце давно уже заливало светом комнату, а Костик все спал и спал. Только когда часы-ходики уже пробили десять, мальчик проснулся. Сладко зевая и потягиваясь, протер глаза, спустил с кровати ноги, натянул рубашку и шорты. Почувствовал – вкусный запах, кажется, пирожки… Услышал: откуда-то раздаются знакомые звуки, но словно уже забытые. Не может быть! Он вышел на кухню. Что это? Мама, в знакомом синем халатике, сидела на табуретке возле окошка, обмахиваясь кухонным полотенцем. На столе стоял противень, прикрытый широким рушником. Сытый Барсик развалился возле маминых ног, зевая и отгоняя невидимых мушек.
– Мамочка, моя мамуля! – обрадовался Костик и бросился маме на шею. Она едва успела отодвинуть в сторонку противень, чтобы мальчик его не опрокинул.
– Доброе утро, сыночек, как тебе спалось? – ответила мама, нежно целуя сына. Он так и застыл, сидя у нее на коленках, обнимая ее, долго не разнимая рук. Все еще не верилось...
– Мама, мне кажется, что я очень давно тебя не видел…
– Почему так? – удивилась мама. – Может быть, тебе что-то приснилось сегодня?
– Да, вспомнил, мамочка, вспомнил! – напрягая всю память, отвечал Костик. – Мне долго снилось что-то, потом... приснилось, что ты… что я – совсем один, что ты… умерла, а папы все нет и нет…
– Ну, сынок, когда снятся такие сны, – вздохнула мама, – это значит, что все мы будем жить долго. Правда, от папы уже давно нет вестей, но ему, возможно, неоткуда позвонить нам... Что тебе еще снилось?
Думая о своем сне, Костик так и не знал, как пересказать его маме, чтобы она поняла. Мама тем временем откинула рушник с противня, положила на тарелочку пирожки, налила большую кружку молока. Костик уплетал за обе щеки, приговаривая, что таких пирожков с капустой и булочек с земляничной начинкой он никогда не пробовал. Мама смотрела на него с улыбкой, и Костику показалось, что ее улыбка напоминает ему… улыбку вчерашнего знакомого – гнома Муля… Мама-МаМуля… Мама, мамочка, мамуля, милая и любимая! Как ей все объяснить?
Покончив с пирожками, Костик снова обнял маму:
– Мамочка, спасибо, очень вкусно. А что ты сама не кушаешь?
– Я уже сыта, позавтракала раньше. Видно, ты мне хочешь что-то сказать важное?
– Да, хочу. Только дай вспомнить… Сон или не сон… Да-да! Вчера я гулял в лесу, искал ягоды, набрал полную корзинку…
– Знаю, я принесла ее в дом, перебрала, решила тебя побаловать пирожками и булочками, замесила тесто… Давненько не пекла! – сказала мама, убирая со стола посуду.
– Я не о том, то есть не только о том… – Костику было не по себе... – Прошу, ты не очень удивляйся: мне не то чтобы приснилось, а словно на самом деле, вчера в лесу я увидел гномов и познакомился с ними. Бывает так или нет? Ведь раньше со мной такого не было! То ли во сне, то ли нет – не знаю. И так вышло… Вчера я думал, что… Вчера тебя еще не было, а сегодня ты – опять со мной!
Мама тут же перестала греметь посудой:
– Значит, так ты считаешь, сынок? Я знаю, ты слишком доверчивый и впечатлительный…
– Да, – продолжил Костик. – Не могу тебе всего объяснить, потому что сам не все понял. Но это правда.
– Сынок, – мама раздвинула занавески на окне, чтобы в доме стало светлее: небо затягивали мелкие тучки, собирался дождик. – Я и сама слыхала, что в нашем лесу когда-то жили гномы, но никто из деревенских, кажется, их не встречал. Давным-давно, сказывают, видели их, а теперь они куда-то спрятались. А еще говорили, что раньше (а когда – вообще никто не помнит) гномы умели творить всякие удивительные вещи, ускорять или замедлять время, унимать боль и превращать горе в радость. Странно, конечно, что ты их встретил!
– Мамочка, мне и самому не верится, но… – призадумался Костя. – Все-таки думаю, что это было неспроста – но было точно.
Мама промолчала, а потом спросилла:
– Надеюсь, ничего плохого они тебе не сделали?
– Ну что ты, как раз наоборот, – ответил Костик, – они оказались очень добрыми и щедрыми. Поэтому, милая мамочка, позволь мне угостить их твоими пирожками. Мне всего-то и нужно только три пирожка.
– Почему столько? – спросила мама.
– Их всего трое.
– Ну, я не знаю, все ли так, как ты понял… Но если речь о трех пирожках, тогда возьми их и еще три булочки, – с улыбкой ответила мама.
Костик с восторгом посмотрел на нее:
– Спасибо тебе, мамочка. Хорошо, что ты у меня такая! А ты не могла бы дать еще сметанки или масла: ведь гномы живут в лесу, коровы у них нет, и они, наверное, никогда этого не пробовали?!
Мама достала пирожки и булочки, положила масло в баночку, а сметану в маленький горшочек. Все завернула в салфетку, завязала узелком сверху – для прочности. В это время на дворе уже начался дождик, и Костику пришлось его переждать. Когда дождь прошел, он обул крепкие, почти новенькие кроссовки, непромокаемую курточку с капюшоном – на всякий случай. Горячо поцеловал мамулю, подхватил узелок с угощениями и побежал туда, где вчера распрощался с Гулем.
«Вчера? – спросил он у себя. – Да, вчера».
По дороге в лес было не так сыро, как в самом лесу, а три дуба дождик обошел стороной. Костик подошел к дубам, примял травку возле кустика жасмина – на пригорке около крайнего кряжистого дубка. Положив узелок, огляделся кругом – никого, только птицы щебетали, не желая успокоиться. Немного погодя, подошел к низкому дуплу, опустил туда узелок, проверил, ровно ли встали баночка и горшочек. Все! Напевая что-то веселое, Костик вприпрыжку побежал обратно, думая о том, что на берегу нужно не забыть нарвать полевых ромашек, которые так нравятся маме…
***
Гномы разговаривали уже долго, сидя на удобной, гладкой ветке недавно поваленного лесниками дерева. При этом Гуль посматривал на крону сосны, наблюдал за кукушатами: они вот-вот должны были вылететь из чужого гнезда, да что-то у них не получалось. Буль, которому не сиделось на месте, тоже обратил внимание на птенчиков и сказал брату:
– Ты знаешь, Гуль, я думаю, что гномом быть гораздо интереснее, чем кукушкой, то есть птицей, например.
– Почему только птицей? – спросил Гуль, собираясь начать с Булем серьезный разговор.
– Ну, не только птицей, но и кем угодно. Гномом – веселее!
– Особенно таким шустрым, как ты, милый мой братишка! – засмеялся Гуль. – Но ты не забывай, что за нами, в отличие от других обитателей, остаются те обязанности, которые пока никто не отменял.
– Знаю, знаю, и еще учить буду, закреплять и так далее. Мне уже сто раз про это говорено было. Еще лет двадцать или сто двадцать поучусь в школе – и тогда стану умным, как ты. Правильно я говорю?
– Эх, братишка, у тебя больше ветра в голове, чем всего остального… – Гуль погладил Буля по макушке, поправляя съехавший на затылок колпачок. – Ладно, резвись, пока лето не прошло!
Буль ловко спрыгнул на мягкий коврик мха, отбежал в сторону:
– Гляди, братец, скоро брусника пойдет! И уже есть ягодки! Надо будет Мулю сказать. Кстати, как он там?
– Все хорошо, ты же знаешь.
– Ага! А какие вкусные у него пирожки с булками, я таких никогда еще не ел! Видишь, братец, и люди умеют делать такое, что и гномам в голову не приходило. А вообще, наш Муль – просто молодчина, не подкачал! Конечно, он долго учился, тренировался, сдавал специальные экзамены – ну, как наши родители. Знаю, что другие гномы, особенно из северного леса, тоже совершали настоящие подвиги, но уже давно… – Буль задумался, вспоминая, как зовут тех гномов, да так и не вспомнил. Ну, ничего, надо будет спросить потом. Или лучше почитать о них? – А стать настоящей мамой человеку, мальчику-сироте, наверное, никто не смог бы, кроме нашего Муля. Правда же?
– Как бы тебе сказать… – отвечал Гуль. – Твоих знаний не хватает, чтобы судить об этом, но кое-что ты усвоил, оказывается. – Гуль терялся, не видя, как приступить к самому главному. – Послушай, малыш… И не отговаривайся, что ты еще очень маленький. Не такой уж маленький, хотя, будь ты старше, не пришлось бы тебе все так подробно растолковывать. Хорошо, что ты понял нашего Муля… – Гуль с умилением смотрел, как Буль нагибается, заглядывая под каждый кустик мха, высматривая бруснички. – Чтобы человеческий ребенок нормально вырос, у него должны быть мать и отец. Мы с Мулем прочли в Книге Судеб, что отец Костика погиб еще весной – значит, он никогда не вернется. Ты представляешь, каково расти сиротой! Ну, долго ли еще будут помогать Костику его соседи или дальняя родня? По существу, он остался один… В человеческом мире таких детей ждет или сиротский приют, или детский дом; и то, и другое – не лучший выход. Хорошо, что у Костика добрые задатки, но их нужно развивать – и лучше родителей этого не сделает никто. Любому ребенку нужны папа с мамой, особенно маленькому.
Тем временем Буль уже успел отойти подальше в сторону и почти не прислушивался к тому, что ему говорил Гуль. Гуль переспросил погромче:
– Ты меня слышишь, братишка?
– Конечно. Да я и так все понял, чего уж…
– Я рад, что ты правильно отнесся к тому, что мы с Мулем решили срочно, без совета с тобой. Но с Костиком ты познакомился самый первый из нас, поэтому Муля тебе легко понять, согласен?
– Ну, конечно же, так было надо, – тут Буль отыскал несколько крупных ягод. – Иди сюда, братец! Или ты сказал не все?
– Да, не все, – Гуль немного помолчал и начал приготовленную заранее речь. – Еще до того, как ты встретился с Костиком, мне пришлось познакомиться с одной девочкой, Леночкой, живущей неподалеку, вернее, не самому мне, а нашему дальнему родственнику, маминому кузену Друлю из восточного леса. Люди навсегда лишили родительских прав родителей этой девочки.
– Так бывает? – удивился Буль.
– Да, у них – бывает. Теперь никто не отдаст Лену родителям, они не должны воспитывать девочку – из-за своих дурных, очень дурных привычек. Их отослали далеко отсюда и вообще от остальных людей.
– Как это? – заинтересовался Буль и стал внимательнее слушать брата, но издалека и не отрываясь от брусники. – Какие это могут быть привычки?
– О, эти коварные привычки ведут людей к преступлениям, на которые гномы не способны, и я даже не знаю, с чем их соизмерить… – отвечал с грустью в голосе Гуль. – Да ты не сможешь понять моих объяснений, потому что пока мало знаешь. Старина Друль сам разбирался в том, что написано в Книге Судеб об этой Леночке, и решил, что ей нужна срочная помощь. А сам он очень, очень стар, ты же помнишь.
– Да, конечно! Дедушка Друль гораздо старше бабушки Тантиллы, он такой… худенький и слабый; про него говорили, что он из домика выходит уже редко. Как же он мог познакомиться с девочкой?
– Какой ты недогадливый! – покачал головой Гуль. – Ему и не нужно было никуда выходить, он способен узнавать многое, не проникая во внешний мир. Так ему стало известно, что родители этой Леночки никогда уже не вернутся к ней, это для нее и лучше.
Буль в недоумении остановился возле кустиков черники:
– Как так могло быть, и что за родители такие?
– Ах, малыш, ты не знаешь людей! – Гулю так-таки не хотелось рассказывать все подробно, ведь младший брат не готов к подобным известиям. – Скажу тебе вот что: в восточном лесу сейчас некому помочь Леночке, и дедушка Друль очень сожалеет об этом. Только сегодня утром мы с ним говорили о Лене, и он больше всего горевал о том, что ее ждет. Сердце мое прямо сжалось от этих ужасных видений! Друль просил меня... Словом, главное: у меня в запасе остался только один день, и если я откажусь... Ты пойми, братишка, Леночке – всего-то! – четыре годика, и ее еще не успели определить в детский приют. Ребенок такого возраста – очень, очень мал по человеческим меркам... Понимаешь?
Буль насторожился, почти догадался о том, что последует дальше. Он перестал искать ягоды и подошел к Гулю, заглянул в глаза:
– Что значит: «понимаешь»? Я – тоже ребенок! А где мои родители?
Гуль протянул руку младшему брату, помогая ему взобраться на ту ветку, где сидеть было удобно, и когда тот сел, продолжил:
– Ты прекрасно знаешь, что они живут очень далеко отсюда – и за все триста лет, которые им еще предстоит там прожить, они не смогут даже навестить нас. А от нас это вообще не зависит. У них – особые дела, особые обязанности, и всех подробностей не знаю даже я. Не хочу снова повторять, что скоро ты поймешь это, хотя не раньше, чем закончишь тридцатилетний курс обучения. Ну, выше голову, ведь ты же – гном! Сейчас речь о Леночке – и не о трехстах годах, а о двадцати-тридцати, может, немного больше, там будет видно… Все зависит от тебя. Я решаю важный для нас троих вопрос, и Муль это уже знает. Я бы попробовал… заменить девочке, например, отца, но не уверен, что получится.
Тут Буль совсем притих и отвернулся в сторону – в знак обиды.
– Кроме того, – продолжал Гуль, – я обо всем соображаю с трудом, и прежде всего – как при этом не нарушить закон соотношений форм и видов жизни, сохранить и закрепить традиции, соблюсти наши этические правила; да и ты просто не даешь мне сосредоточиться…
Буль уже все понял и был готов разрыдаться – что же это позволяют себе братья? Но сдержал слезы, проглотил обиду и спросил:
– Значит, братец, вам с Мулем меня совсем не жалко? Я уже научился понимать тебя и Муля… А вы? А ты? Ты, оказывается, тоже хочешь бросить меня на милость природы, а сам – туда же. Костик, Леночка, может, и еще кто-то – чужие человеческие дети вам дороже собственного брата… – Буль замер. – Ой, прости меня, я что-то не то говорю!
– Да, ты мал, конечно, но говоришь действительно жестоко, – сказал Гуль твердо. – Слушай меня: вся-то жизнь человека слишком коротка, а уж детство – кончается стремительно. Ты и оглянуться не успеешь, как мы оба будем рядом. Главное, чтобы Костик и Леночка выросли добрыми и честными. Ты ведь понял, что Костик – хороший мальчик, а останься он один, ему ничего не стоит попасть в любую беду, каких великое множество в мире… И запомни: все беды и несчастья из мира людей могут очень быстро оказаться в мире гномов – все так тесно связано на свете!!! – Гуль смотрел на Буля, смягчаясь… – Да, милый братишка, за столь короткое время ты узнал слишком много нового, тревожного, с чем раньше не сталкивался! Знай, что истории, похожие на Костикову и Леночкину, очень часто встречаются в теперешнее время...
Огорчению маленького Буля не было границ. Он тихо спросил:
– Но почему, почему же?
– Так уж повелось у людей, – отвечал Гуль. – Они не успевают должным образом позаботиться о детях, находят дела поважнее, кукушкам далеко до их эгоизма... А уж Леночку и Костика без нас и вовсе будет некому вырастить и воспитать; никто не даст им и образования. Муль должен точно и быстро все исправить, подвергая себя немалым опасностям, которые заранее даже вообразить нельзя. Но он – опытный. А Лену нужно срочно спасать из лап преступников, и если не справлюсь я… – Гуль вздохнул, осознавая, что и сам едва способен на тот поступок, который задумал столь неожиданно для себя. – И хотя у меня нет обширного опыта и знаний… Нет, я обязан сделать все правильно! За то время, пока ты будешь потихоньку подрастать и прилежно учиться, Костик и Лена успеют стать большими, понимаешь? Через короткое (по нашим меркам) время они повзрослеют, потом постепенно состарятся, у них будут уже внуки, а ты, Бульчонок, все еще не выйдешь из детства! То есть мы расстаемся ненадолго...
Буль сидел, болтая ножками, и удрученно молчал. Его душа преодолевала мучительные сомнения, которых раньше не знала… Он уже понимал, что и сам перестает быть «маленьким», все стремительнее становится большим. Гном – этим сказано все! Гуль изнывал от жалости к брату, но разум снова и снова призывал к твердости воли:
– Правда, мы с Мулем надеемся, что за эти годы ты не только наберешься ума, но и научишься любить. Любить... Помнишь, как говорил Муль: «Любовь – это когда внутренний мир поглощает внешний». Такое определение относится к каждому живому существу. Любовь – вот чего не хватает всем нам… Ты скоро узнаешь, что люди живут очень недолго, сменяя друг друга, и при этом творят в мире столько дурного, что никакие гномы не успевают исправлять их ошибки. Ошибки лучше предотвращать. Костик и Леночка – показательный пример того, как можно любовью поправить дело, не допустить самого худшего, и не только для одного мальчика или одной девочки. Повторю: в мире все связано. Понимаешь?
– Да, все тесно связано друг с другом, – тихонько произнес Буль, опуская голову. – А с кем я буду… все это время?
– Вот это – другой разговор, – обрадовался Гуль. – Мой дорогой малыш! Не грусти, не отчаивайся напрасно... Если не возражаешь, я тебя отправлю к тетушке Веруле и дядюшке Никулю.
– Ой, – улыбнулся Буль, – миленький мой Гуль! Это правда? Тетушку Верулю я очень люблю: она добрая и веселая. Правда, дядя Никуль бывал очень строг: в позапрошлом году так отчитал меня за какую-то ерунду, что до сих пор его побаиваюсь.
– Точно за ерунду? – Гуль строго заглянул в озорные глазенки Буля.
– Ну, почти… – немножко замялся, отводя взгляд, Буль. – Там тоже вышла одна история, когда я с мышонком… Ладно, виноват, это правда.
– Значит, не обижаешься на дядюшку?
– Нет, что ты, – откликнулся Буль.
– Вот и хорошо, а уж они-то по тебе соскучились! Значит, договорились, братишка? Честное слово?
– Договорились, Гуль, – сказал Буль. – Я все понял, не сомневайся. Постараюсь быть… послушным и исполнительным. Обещаю, и если хочешь – даю слово, потому что нет ничего дороже честного слова.
– Дорогой ты мой, сокровище мое бесценное! – порывисто обнял братика Гуль. – Мы с Мулем очень любим тебя, мы найдем возможность почаще навещать тебя, чтобы ты сам не слишком страдал в разлуке. Обещаю это, даю тебе такое же слово – честное слово гномов! Так?
– Ага, братец… – отвечал ему повеселевший Буль.
…Они спрыгнули с удобного сиденья и направились домой. Буля нужно было собрать в дорогу, а самому Гулю, кроме сборов и отправки Буля, предстояло улаживать множество дел, и как можно быстрее. Хорошо, что все решилось! Гномы шли по своей проторенной тропинке, собирая по дороге травы и цветы, вслух пели любимую песенку.
Мы – добрые гномы, мы любим свой лес,
Мы славно живем на планете чудес.
Дневная дождинка, ночная роса,
Снежинка, пылинка – творят чудеса.
И нас чудеса за собою зовут
Туда, где чудес с нетерпением ждут.
Мы с детства привыкли природу любить,
Друг другу добро бескорыстно творить.
Мы любим животных, жалеем людей,
Мы с радостью всем помогаем в беде.
Мы всех призываем наш мир сберегать.
Мы рады, что можем другим помогать!
 Как только Диван попал в мебельный салон, он тут же подумал, что жизнь всё-таки хороша. Да, здесь ему показалось очень пристойно, не то, что на родной мебельной фабрике, где с утра до ночи царила суматоха, в цехах стояли шум и гам, тарахтели станки, везде валялись деревяшки, скапливались стружки, собирали и двигали мебель. И потом, пока довезли, так бока намяли, что еле отдышался. Зато теперь можно расслабиться и строить приятные планы..
Как только Диван попал в мебельный салон, он тут же подумал, что жизнь всё-таки хороша. Да, здесь ему показалось очень пристойно, не то, что на родной мебельной фабрике, где с утра до ночи царила суматоха, в цехах стояли шум и гам, тарахтели станки, везде валялись деревяшки, скапливались стружки, собирали и двигали мебель. И потом, пока довезли, так бока намяли, что еле отдышался. Зато теперь можно расслабиться и строить приятные планы..
Диван был большой, добротный, густой терракотовой расцветки, с мягкими подушками, удобными подлокотниками; сам себе нравился чрезвычайно. Поставили его в самом центре зала, откуда открывался хороший обзор. Осмотревшись, он сделал точную оценку шкафам, тумбочкам, столам и прочим вещам; понял, что по сравнению с ним они проигрывают значительно. Значительно! Это очень потешило его самолюбие, но он тут же задумался: какое преимущество это дает ему, Дивану? Наверное, ему ещё долго пришлось бы размышлять над этим, как… Он неожиданно заметил среди мягкой мебели, стоявшей особняком, опрятную Тахту спокойных бежевых тонов. Тахта была повернута к нему только краешком – трудно определить, что она представляет собой целиком, что таится там, за нагромождением книжных полок и стульев, но догадаться было можно, и внутренний голос подсказывал: это – именно она. Диван зажмурился от мысли, что она из высшего света, что она...
Целый день Диван прикидывал и соображал, как бы познакомиться с ней. Ночью пытался пододвинуться ближе, но не получилось, и всё – по вине этих инфантильных книжных полок и стульев устаревшего образца. До утра его изводила мысль, что вдруг (вдруг!) их увезут отсюда в разные дома; а скорее всего – того и следует ждать… Как же быть? Едва задремал, как наступило утро. Только открыл глаза – увидел, что салон давно работает, и вокруг мебели топчутся покупатели... Что это? Куда-то передвигают… нет, выносят вон из салона приглянувшуюся ему Тахту! Ах, как она и в самом деле хороша, красавица-Тахта! Прямо дух захватило: действительно, девушка – из высшего общества, по крайней мере, с центральной мебельной фабрики. Там, откуда он родом, такие красавицы ещё не появлялись. Сердце Дивана сжалось со всей силой новых пружин… Вдруг к нему подошли, оглядели с разных сторон, побеспокоили подушки и пружины, крепко взялись и понесли к выходу. Успокоился Диван, оказавшись… в крытой машине рядом с Тахтой. «Попасть бы в один дом!», – вот о чём стучали пружины его сердца по дороге к пристанищу. Оба, и Диван, и Тахта, смущённо молчали всю дорогу, поглядывая друг на друга, почти не обращая внимания на тряску и толчки корпусной мебели, нахально наваленной на них сверху.
Судьба оказалась благосклонной к Дивану и Тахте настолько, что их привезли не только в один и тот же дом, известный миролюбивыми обычаями, но и поставили в соседних комнатах, да так, что они могли сколько угодно смотреть друг на друга, когда открывали дверь в гостиную. Диван прочно и величественно устроился в удобном углу гостиной возле тёплого камина и посматривал на Тахту, стоявшую наискосок – в маленькой комнатке. Поначалу он был настолько доволен своим положением и окрылён нежными чувствами, что не заметил, как неудобно Тахте на проходе: порой она просто содрогалась от сквозняков. Но потом Диван догадался, как ей неловко, вспомнив, что сам так же маялся, пока на складе дожидался отправки с мебельной фабрики. Сам же – часами не отрывал от неё глаз и всё более очаровывался её утонченной красотой…
Ах, красота требует особенного отношения к себе, а где же оно?!
Говорят, когда-нибудь красота спасёт мир...
Но кто ж возьмётся теперь спасать красоту?
Диван всеми подушками и пружинками чувствовал, что милой его сердцу Тахте становится не по себе, когда одновременно открывают форточку в гостиной и дверь в комнату – сквозняк при этом усиливался. С одной стороны, Диван только и мечтал о том, чтобы дверь в гостиную отворяли как можно чаще, с другой – не хотел, чтобы при этом страдала его любимая. Он ещё долго бы тянул, собираясь познакомиться с ней обстоятельно, но теперь вроде и причина нашлась. Диван решился – и при первом же удобном случае, как только открылась дверь...
– Любезная красавица-Тахта! – тихонько произнёс он, с волнением поглядывая на Тахту и поскрипывая. – Не знаю, как начать, но хотелось бы предостеречь вас…
– Меня? – спросила Тахта, словно удивляясь тому, что ею заинтересовались, а сама давно надеялась, что Диван... Диван понравился ей с первой встречи в машине по дороге сюда; с недавних пор почувствовала, что он добропорядочный и заботливый. Она бросила на него робкий взгляд, чтобы лишний раз убедиться: не только симпатичен, но просто неотразим!
– Да. Я заметил, что вы сутками простаиваете на сквозняке, – продолжал Диван, – Смею утверждать: это вредно для здоровья.
– Возможно, вы правы… – протянула Тахта, польщённая его вниманием. – Только, наверное, ничего изменить нельзя.
– Разрешите, разрешите не согласиться, – отвечал Диван и запнулся, не зная, как действовать дальше.
В доме установился такой порядок вещей: важные вопросы и проблемы жильцов решались при участии всего мебельного сообщества. А сначала было принято обращаться к Комоду, управляющему делами домашней мебели, с обоснованием просьбы или намерения. Диван не знал, о чём просить конкретно. Вдруг откажет? Приводить в качестве довода какой-то сквозняк – легкомысленно... Нет, видимо, прежде следует как-то договориться с Тахтой. Или, напротив, пусть это будет сюрпризом для неё? Диван всё думал и мрачнел, а время шло. Пора что-то предпринимать, а то Тахта простынет не на шутку!
Наконец Диван, выждав денёк для солидности, всё выложил Комоду. Тот, подумав денька два для важности, одобрил его намерение, и Диван тут же сделал Тахте нежное предложение.
– Предложение? Мне? – Тахта была растрогана до слёз, хотя ждала именно этого. – Позвольте чуть-чуть подумать!
– Думайте на здоровье, – отвечал Диван напыщенно, чтобы придать себе весу в глазах Тахты и всего общества, – только не слишком долго, а то, знаете ли, хуже всего – пребывать в неизвестности. Я-то всё уже обдумал в подробностях.
Тахта согласилась вскоре, хотя могла бы из ложной скромности пожеманиться и оттянуть ответ, но зачем, если двоих всё устраивало? Диван был счастлив, Тахта довольна – значит, лучшего и желать нечего!
Это так, да не совсем: не одни же они жили в целом доме, не каждому соседу чужое счастье понравится. Можно только представить, сколько завистников скривилось, узнав такую новость, но влюбленных ничего не смутило. Они полагали, что после объявления помолвки недоброжелатели успокоятся и прекратят свои глупости, но не тут-то было: шпилек и булавок им обоим досталось немало! Кроме того, имелось неприятное для Дивана обстоятельство: Кресло. Кресло попало в дом раньше других обитателей и поначалу имело некоторые виды на Тахту, прибывшую вместе с другими новосёлами. Но неожиданно у самого Кресла что-то случилось с колёсиками – и оно долго не могло определить своё местоположение в доме, словно застопорилось и задержалось в прихожей – не то, что этот самоуверенный Диван, устроившийся в тёпленьком месте! Время было упущено. Диван всё понял, но посчитал, что будет ниже его достоинства соперничать с несуразным кособоким Креслом, кичившимся тем, что оно с красавицей-Тахтой – с одной фабрики родом (да кто в это поверит?), что их в одном мебельном цеху произвели на свет. Дипломатичный Комод не дал маленькому инциденту развиться в драму, заблаговременно предупредил Кресло о соблюдении приличий; назревающий конфликт вроде бы «сошёл на нет». Что ж, Кресло просчиталось – и поделом ему за это! В общем, пока всё обошлось…
Диван торопился со свадьбой, Тахте это льстило, и наконец, после коротких приготовлений свадьба состоялась. В день бракосочетания Комод собрал всех жильцов. Он торжественно поздравил новобрачных и гостей, выдвинул свой самый заветный ящичек, вынул из него заранее приготовленное Постановление в рамке и зачитал его. Постановление гласило:
– С нынешнего дня уважаемые Диван и Тахта могут считать себя законными супругами, окружающие соседи и родственники обязаны уважать этот брачный союз. Напоминаю, что это – первая свадьба новой мебели в нашем доме, давайте утвердим замечательную традицию, будем продолжать её. А пока пожелаем счастья и здоровья молодожёнам!
На свадьбе было весело и шумно, без происшествий. Медовый месяц оказался самым счастливым в семейной жизни Дивана и Тахты. Теперь они жили в очень уютной, удобной комнате, где форточки открывали редко, опасаясь сквозняков. Их жизнь текла тихо и складно; соседи несколько угомонились, а если как-то и подначивали новобрачных, то Диван с Тахтой старались не обращать на это внимания – им было дело только до себя. Однако прошло какое-то время, а колкости и подковырки некоторых соседей в адрес Тахты не прекращались, становились всё изощрённее: нет-нет, да и подденут лучшие чувства мягкой на вид мебели. Вот уж нравы Средневековья! Капля камень точит, а булавка обивку колет – и Тахта стала всё чаще вздрагивать от зацепок и обид, а жаловаться Дивану не хотела.
– Что-то ты нынче не в духе, Тахта моя, подруга ненаглядная, – добродушно говорил Диван, просыпаясь после полуденного сна. – Просто не в настроении или обидел кто, дорогая?
– Не обращай внимания, это я так, отвлеклась, задумалась о прошлом, – отвечала Тахта неохотно. – Не стоит, наверное, попусту и вспоминать о нём…
– Ну, тебе виднее, – соглашался Диван, припоминая о своём прошлом, не таком уж сером и скучном, как казалось раньше, кстати сказать. И что в прошлом могло быть у Тахты? Кресло, что ли? Так это несерьезно!
А Тахта продолжала переживать, невольно пеняя на виновников своих переживаний, вернее, виновниц. И первой виновницей она полагала надменную, на первый взгляд, Софу; та уж такой высокомерной казалась вначале, а на поверку вышло другое. Ну чего ей ещё надо? Живёт совершенно отдельно, места занимает – половину комнаты, да так поставила себя, что все у неё в услужении. Капризничает, сколько хочет, и любой её каприз выполняется! И что привязалась к семейной паре? Стала лезть в подруги к Тахте – пожалуйста, принялась давать советы – тоже неплохо, но когда (и представьте, далеко не в молодом возрасте) сменила неброскую обивку на яркую и пёструю, то… То у Дивана просто зарябило в глазах! Вот не хватало – Тахта не выдерживала и принималась плакать, да плакала так сильно, несдержанно и подолгу, что это стало действовать Дивану на нервы.
– Душенька моя, в чём дело? – с досадой морщился Диван, которому не нравились женские причуды. – Мало ли что кому в голову придёт, какая фантазия разыграется: о вкусах мягкой мебели спорить бесполезно. Да не ревнуешь ли? Полно! Ты должна всегда быть уверена во мне и помнить о моей стойкой привязанности к скромным формам и расцветкам – к твоим, заметь!
Однако Софа не ограничивалась никакими рамками, и Тахта расстраивалась не на шутку – она не ожидала такого оборота. Тогда их сосед Книжный Шкаф, самый пожилой обитатель дома, уже давненько наблюдающий за этой милой парой и глядевший на их семейную перебранку через призму книжной мудрости, порылся в своих запасах и отыскал для Тахты утешение – книгу «Они жили долго и счастливо» – о том, как сберечь счастье, обретённое смолоду.
– Это мне поможет? – спросила Тахта.
– Это поможет вам обоим, – с воодушевлением пообещал благодушный Книжный Шкаф.
Книжный Шкаф был воспитан по классическим правилам и недолюбливал, когда их нарушали. Он за свою жизнь успел пожить в разных, но хороших домах; понимал, что Софе – совсем не место в приличном обществе. Да если дело было бы только в Софе или, скажем, в Двойняшках-Кроватях, так и сверкающих крахмальным нижним бельём перед статным Диваном! Ведь Диван-то и сам оказался чувствительным чересчур и уж так посматривал на запальчивых прелестниц, что те просто млели от восторга.
Книжный Шкаф всё примечал, да что толку? Попробовал, правда, сделать Дивану внушение наедине, но...
– Разве я сам «рвусь в бой»? – спрашивал Диван. – Нет, первым никогда не начинаю. Это всё они…
– Да, но вы никогда не пресекаете такие «штучки!»
– Пресекать? – искренне удивился Диван. – Это было бы слишком… слишком жестоко по отношению к одиноким дамам, лишённым мужского внимания. И чем худо слегка ободрить их?
Диван с досадой отмахивался от ворчливого старика, этого вечного «советчика-неудачника» Книжного Шкафа, но уж от начальствующего Комода отмахнуться невозможно. А тот явно не одобрял его поведение:
– Вот, смотрите-ка сюда, любезный. Недавно одной из наших юных Табуреточек торжественно сделал предложение респектабельный Сундук, но она, глядя на вас, принять его предложение всё-таки не решилась.
– Почему это? – снова удивился Диван.
– А потому. Табуреточка говорит: «Как только на мне женится, так и охладеет, а потом станет относиться как к собственности, а глаза пялить – на моих сестёр: вон сколько Табуреток вокруг, а Сундук – только один!»
– И чем я виноват? – заартачился Диван.
Комод выразительно промолчал в ответ, оглянувшись, не слышит ли их разговор несчастная Тахта. А Тахта… Она-то всё замечала, страдала нешуточно, но с некоторых пор старалась переживать молча. Надолго бы её хватило? Неизвестно, чем бы дело кончилось (вполне вероятно, что и разводом!), как однажды Тахта почувствовала, что ждёт пополнения семейства. Объявила об этом Дивану, тот безумно обрадовался. Моментально откинул в угол свои невинные увлечения, чтобы не нервировать супругу: ей – в её-то положении – никак нельзя волноваться.
Как же приятно думать о том, что у него будет наследник!
Диван ликовал, не сдерживаясь, – ожидал сына...
Поделился своей радостью с Комодом, а тот отвечал ему:
– Надеюсь, теперь вы образумитесь. Первое рождение младенца в нашем доме – событие для нас; рождение в семье, а не под чужими руками, с позволения сказать, «в пробирке» (то есть в условиях планового эксперимента), в казённом доме либо на мебельной фабрике. Вы должны помнить об ответственности перед супругой и обществом. Так гласит Постановление! На вас обоих смотрят все жильцы. Понятно?
Чего ж не понять? Узнав об этой новости, «милые» соседи и соседки несколько осадили себя и поумерили страсти – однако, известное дело, ненадолго: посмотрим ещё, что и как. Посмотрим… Через положенный срок у Тахты родилась дочка, замечательная девочка, Кушетка.
– Ну, девочка так девочка: все дети хороши! – обрадовался Диван. Книжный Шкаф расчувствовался и тут же подарил им подходящую к случаю книгу «Родителям о детях», которую Диван взялся изучать тщательно, особенно раздел о нравственном воспитании.
Изучать-то изучал, а на самом деле… Прошел месяц-другой, и Тахте стало ясно, то её супруг не оставил прежних мыслей насчёт соблазнительных соседок, недолго сдерживался, играя роль идеального отца, но тут же принялся за старое. Ей всё горше и горше было глядеть, во что превращалась её жизнь, да куда же с ребёнком денешься? Кто и где так уж её ждет? Хотя… Благовоспитанной Тахте никогда и голову не приходило, что не помешало бы изредка словечком перекинуться, к примеру… с неприкаянным Креслом, так и не потерявшим интереса к ней:
– Куда так спешишь жить, соседка дорогая, никогда не взглянешь на меня? Чай, забыла, что мы с тобой родня, хотя и дальняя. Могла бы быть со мной малость приветливее... Я ведь не из последних кавалеров буду!
Кресло не оставляло прежних притязаний, только до сих пор устроиться получше так и не смогло – обреталось в той же прихожей, где «прописалось» с самого начала. Зато решило никому не давать проходу и специально для этого время от времени останавливалось поперёк неширокого коридора, чтобы контролировать всех и вся. Ну, пусть себе стоит, кавалер отставной… Тахта никогда не давала повода думать о себе как о ветреной, доступной женщине, как о предмете… удобной для кого-то мебели. Она взяла за привычку не отвечать на оскорбительные и унизительные выпады, игнорируя их. Да что Кресло! А Диван-то… Ах, Диван-Диван – чего ему надо? Вот если бы супруг относился к ней как во времена их знакомства… Жаль, хватило его только на то, чтобы «пыль в глаза пустить»! Как скоро он выказал себя таким слабохарактерным: и оставить его невозможно, и прощать постоянно – терпение иссякало.
Уныние все больше охватывало Тахту…
Кушетка подрастала, не вникая в сложности отношений между родителями, да и правильно делала: у детей своя жизнь. Обстановку в доме изучила быстро; тут редко что-нибудь менялось, а многое и надоело. Новенького же очень хотелось... Живут же другие, в других-то домах! Скоро сдружилась с дворовыми детьми и все реже проводила время с родителями – пусть ругаются и разбираются в своих делах без свидетелей. Незаметно Кушетка подросла, стала привлекательной, даже красивой. Когда юная девушка появлялась перед гостями вместе с отцом, те несказанно удивлялись:
– Ай да красавица! И когда же успела вырасти?
Сама Тахта старалась как можно меньше показываться публике, хотя Диван настаивал: пусть все полюбуются на неё! Раньше Тахта тоже любила приятное общество, но потом стала быстро утомляться, всё чаще искала уединения. А теперь возникла и новая причина «быть в тени»; и если прежде ей приходилось отговариваться легкими недомоганиями (мигренью или бронхитом), а то какими-то пустяками (это – из-за супруга!), то сейчас она вновь ждала прибавления семейства.
– Ну, уж теперь-то будет сын! – довольный Диван торжествовал заранее и не ошибся. Родился сын Пуфик, симпатичный упитанный малыш, и у Дивана потеплело на душе: сын так похож на него!
Тахта повеселела и словно воздушнее стала
– ей было приятно, что она угодила мужу;
глядишь, ещё наладится семейная жизнь!
На какое-то время в семье воцарился покой. Однако ироничная Кушетка любила острить по этому поводу, потому что не верила, что мир – надолго. Ну, это у неё – возрастное, не стоит обращать внимания… Не обращать?
Когда у Тахты и Дивана родилась еще одна дочь, Банкетка, все соседи приходили полюбоваться на неё: прелестнее ребёнка не видел никто! Родители были рады, хотя и озабочены: трое детей – всё-таки что-то да значат… Дети – сама стабильность семьи. Казалось бы, отцу семейства пора остепениться... Тем не менее, время после рождения третьего ребёнка запомнилось супругам как наиболее спокойное и приятное – не считая медового месяца, конечно.
Книжный Шкаф радовался за них, но недолго. От него не укрылось то, что Диван продержался чуть-чуть и снова взялся за прежние грешки. Да и то – Книжный Шкаф видел этот Диван насквозь… А Тахту жалко и всё тут! Интеллигентная, добрая, беззащитная… Шкаф долго сопел и пыхтел, обследуя самые дальние свои полки и вороша сокровенные запасы. Наконец, вынул на свет очередную умную книгу, полузабытую всеми «Философию любви», и подарил её Дивану и Тахте на юбилейную годовщину свадьбы. Сказал:
– Полюбопытствуйте, что большие умы написали, не сочтите за труд. Да не откладывайте в долгий ящик: ведь стоящих книг всё меньше становится, в основном их давно порастащили, а новые-то – не тому учат.
Книжный Шкаф понадеялся, что они почитают книгу и…
Что книга! Тахта плохо себя чувствовала, и ей становилось всё хуже и хуже: то просто покашливала, то заходилась кашлем, то преодолевала приступы бронхита. То холодом окатит – придвигалась к камину, то жаром обдаст – подавалась к форточке; словом, замучилась бедняжка. Она не любила призывать докторов, старалась не обращать на себя внимания, да и когда заниматься собой или книжки умные читать? Дети и муж требовали постоянных забот. Она лечилась время от времени, но не могла обрести прежнее здоровье и находила объяснение своему состоянию... в философии жизни.
Была признательна старику Книжному Шкафу, так нежно относящемуся к ней; вот, снова книгу подарил, самую лучшую, наверное, и на большее он вряд ли способен. Жаль, сильно состарился, выглядит удручающе, передвигается еле-еле, языком едва шевелит, мысли путает, да и заговариваться что-то стал, глядишь – запросто рассудка лишится!
Полистал-таки и Диван эту «Философию любви», показалось сложно. Заглянула в книгу проказница-Кушетка – подняла на смех и Диван, и Книжный Шкаф, и всех философов, вместе взятых: устаревшие элементы! На дворе двадцать первый век, век мебели в стиле «модерн», а они в бабушкины сказки верят… С тех пор Кушетка книг не читала, а развивала мягкость характера, что ценится в комнатной мебели – посторонними.
Пуфик и Банкетка росли вместе и на старшую сестру походили мало, быстро набирались ума-разума, чем радовали мать. Диван уже входил в почтенный возраст, немного остепенился, но «горячая кровь» нет-нет, да взыграет, и как пойдёт…
– Детей стыдно, – разговаривая сама с собой, вздыхала Тахта.
Она давно смирилась со своим положением. Кресло всё еще посматривало на неё, да не часто: Тахта заметно осунулась, постарела, подурнела. А тут ещё и с Книжным Шкафом непоправимая беда приключилась – так скрутило бедолагу… Словом, отобрало речь, парализовало движение, остановилась мысль. Скончался скоропостижно, хорошо, не на глазах у детей.
«Первый звонок в дверь нашего временного благополучия», – подумала Тахта и почувствовала, что начинается очередной приступ мебельного бронхита: пыль переживаний забила все поры – так зашлась кашлем, что еле удержалась на ножках. Диван на этот раз сам увидел, что с супругой нелады (не прикидывается), и вовремя подставил подлокотники, а то брякнулась бы на пол – каркас не соберёшь!
И где только носит эту Кушетку, когда матери так плохо?
Диван уж давно стал примечать, что Кушетка любит проводить время как можно дальше от дома. Рассказывали, что видели её в одном неприличном заведении, в сомнительной компании Барных Стоек и Пивных Ящиков. А то, не стесняясь соседей, не обращая никакого внимания на сплетни у себя за спиной, часами кокетничает с неряшливыми ухажерами неизвестного сословия, да ещё под самыми окнами.
– И какое всем дело до моей личной жизни? – заявляла она с презрением. – Самим-то уже из дому не выползти – вот и завидуют моей свободе. Гляньте-ка: все свои стяжки, гвозди и шурупы сточили, мои пружинки перемывая. Поберегли бы лучше себя, чем меня со свету сживать!
Две сердобольные соседушки-компаньонки, дородная простоватая Тумбочка и изящная манерная Цветочная Подставка, проживающие в бельэтаже (как говорится, в тесноте, да не в обиде), начинали и заканчивали день, обсуждая поведение легкомысленной Кушетки.
– В кого она такая уродилась? – заговаривала первой Тумбочка. – У Тахты фривольных задатков я никогда не замечала. А Диван по молодости допускал лёгкий флирт…
– Что верно, то верно, – подхватывала Цветочная Подставка, чтобы поддержать разговор. – Но с годами умнее и сдержаннее стал. Да и прежние невинные его интрижки – чистое баловство. Больше раздували, чем было на самом деле!
– А может, всё-таки гены виноваты? – заскрипела дверцей Тумбочка. – Давай-ка разберёмся!
– Где уж нам такие тонкости понять! – возразила Цветочная Подставка, чрезвычайно довольная тонкостью своей мысли.
– Нет-нет, если уж не нам с тобой, то никому другому не под силу уразуметь, что к чему, – с воодушевлением изрекла Тумбочка. – Рассуждаю так. Диван устойчив, массивен, настойчив, а Тахта хрупка, нежна, покладиста. Да, и отсутствие у Тахты жёсткой спинки, то есть отсутствие твёрдости, видимо, сыграло определённую роль в воспитании старшей дочери.
– Выходит, образ отца и фигура матери… – начала догадываться Цветочная Подставка.
– Нет, сама по себе фигура тут ни при чём, – возражала Тумбочка, подхватывая упущенную мысль, одновременно заталкивая обратно вечно вываливающиеся из неё какие-то свёртки, пакетики и мешочки.
– Как – «ни при чём»? – обижалась Цветочная Подставка, гордившаяся своей стройной фигурой, считавшая, что ей нет равных во всём доме, потому не боявшаяся никакой конкуренции. – И пойми, даже гены…
– Вот-вот, – разволновавшаяся не на шутку Тумбочка не смогла продолжить прежние размышления, но, пользуясь случаем заявить о себе, произнесла: – Не припомню ничего подобного в моей биографии. Да и биография Тахты… Кто о ней хоть одно дурное слово сказал? Словом, как бы то ни было, легко ли родителям смотреть на такую-то дочь?
– Да-да, твоя правда, – брезгливо скривилась Цветочная Подставка, небрежно поправляя съехавшие набок ярко-розовые цветы герани в пузатом горшочке. – Пора бы Кушетку замуж выдать, а за кого? Кто возьмёт, когда по пятам идёт дурная слава?
И другие соседи поговаривали о Кушетке примерно так же. Тахта не прислушивалась специально, но сплетни до неё доходили: она всё больше сокрушалась о том, до чего докатилась её дочь. Да и с Диваном... Всё это ужасным образом влияло на нервную систему Тахты, болезни так и липли к ней. Диван временами поддавался высоким чувствам ответственности за семью, начинал утешать Тахту, страдающую всё сильнее и сильнее, одёргивал Кушетку, распоясавшуюся до предела. Но то и другое помогало плохо. Тахте становилось хуже и хуже, а Кушетке всё было нипочем. Ах, как же неприятно было и самому Дивану! Радовало, что младшие дети, Пуфик с Банкеткой, нежно любили своих родителей и не слишком огорчали их. Что там происходит у старшей сестры, им было непонятно. Вот маме плохо становится, это они замечали…
А Тахта сдала настолько, что это стало заметно всем.
Она уже потеряла прежнюю стройность,
стала рыхлой и дряблой,
кашляла всё глубже и сильнее,
так что дном почти касалась пола.
Наконец, стала рассыхаться с огромной скоростью – может, потому что слишком долго простояла когда-то у камина, как того хотелось привередливому Дивану? Уже два раза Тахту лечили основательно (меняли центральные пружины) и один раз перетягивали обивку – больше она не выдержит ни одной подобной операции. Диван скрипел и гудел всеми пружинами, раздумывая о будущем, оно не обнадёживало.
Надо же – тут ещё и Кушетка, приучившая всех к своим частым отлучкам, пропала надолго. Ждали-пождали – пришло письмо, и не откуда-нибудь, а из столицы, из дома временного содержания благородной мебели. Кушетка писала, чтобы о ней не беспокоились впредь, у нее всё нормально, а свою дальнейшую судьбу она устроит сама. Привет соседкам!
– Что это за дом, чем она занимается, куда писать ответ – ничего не сообщила... – Тахта вздохнула и скорбно посмотрела в окно: где там столица? – И чем здесь было плохо, кто ей мешал?
Диван не знал, что отвечать, зато соседи хором вопили:
– Мы так и знали, мы всё видели, предупреждали!
Причитали без остановки, пока Комод не прикрикнул на них. Он велел прекратить истерику; пришлось подчиниться... А зачинщицей всего была та самая Софа-поджигательница, которая век, кажется, прожила, да так и осталась с не приведи какой репутацией, и не только в доме или квартале... Вот ведь тупая, непробойная скандалистка; ничего её не берёт!
Тахта же пропускала эти выпады, с удивлением сознавая, что ей становится почти всё безразлично. Она терялась в догадках по поводу Кушетки и целиком озаботилась воспитанием младших детей, испытывая к самой себе все большее равнодушие и почти перестав обращать внимание на Диван. Тахту всё больше беспокоил надсадный кашель, усиливающийся день ото дня, – такая пылища вокруг! Вот так вот... Она терялась в догадках по поводу Кушетки и целиком озаботилась воспитанием младших детей, испытывая к самой себе все большее равнодушие и почти перестав обращать внимание на Диван. Вот так вот! Кто бы мог поверить, глядя на неё, трясущуюся от раздирающего кашля и похожую скорее на неустойчивый топчан, что в молодости её называли не иначе, как красавицей-Тахтой? Диван редко разговаривал с супругой, опасаясь, что при разговоре с ним Тахта разнервничается, сорвётся и перейдет на жуткий кашель.
– Как же я виноват, – укорял себя Диван, глядя на Тахту, когда та забывалась в коротком сне. – Как я мог не оценить её, как только допустил, чтобы жизнь так неласково обошлась с моей первой и последней любовью? Жаль, что прошлое не воротить!
А иногда старался совсем не смотреть в сторону Тахты – от стыда; казнил себя за свой непреходящий эгоизм... Но чем это могло помочь ей или ему?
Сам Диван старался держаться молодцом,
но и его здоровье уже пошаливало –
колики в левом боку предупреждали о бренности жизни.
Он как-то быстро скукожился, накренился и вскоре перестал считаться дамским любимцем, начал забывать прежние увлечения. Часто задумывался по-отцовски: где Кушетка, что с ней? Этого не знал никто... Подобрал заброшенную когда-то и покрывшуюся пылью книгу, ту самую «Философию любви», перечитал несколько глав – как верно написано, да поздно дошло! Жалко, не с кем поделиться своей личной философией...
Тахта, чувствуя себя всё хуже и хуже, попросилась в свою девичью комнату.
– Что же, опять – на сквозняк? – остановил ее Диван.
– На сквозняк… – прошептала обессилевшая Тахта, умоляюще глядя на супруга. – Мне свежего воздуха не хватает, так разреши…
Комод видел, что дела Тахты очень плохи – а ведь по возрасту ещё довольно молода! Приказал Дивану – не возражать, и Тахту еле перетащили туда, куда ей хотелось, после чего она потеряла сознание от изнеможения. Сделали искусственное дыхание, и она очнулась еле-еле... Желая облегчить положение Тахты, Комод выделил Дивану две детские путевки – и Пуфик с Банкеткой отправились в оздоровительный лагерь мягкой мебели, чему были очень рады. Как только дети уехали, Диван почувствовал пустоту и одиночество, чего никогда раньше испытывать не приходилось.
К Тахте старался заходить пореже, чтоб не беспокоить её.
Состарившееся одинокое Кресло так и кряхтело посреди прихожей, задирая и подзуживая всех, кого можно, кроме Комода, а вот Дивану сочувствовало:
– Я-то помню, как хороша была душечка-Тахта по первой молодости. Мечта недосягаемая! Богиня… Да и теперь, если бы о себе больше заботилась раньше, все призы на конкурсе мягкой мебели взяла бы!
Дивану было горько слушать эти рассуждения «о конкурсах и богинях», но надо же с кем-то разговаривать, хотя бы и не касаясь философии... Так и проводил вечера рядом с Креслом – спасибо, не в одиночестве. Днём заглядывал к Тахте, привыкшей к его приходам, как к визитам… обходчика или сторожа, почти постороннего ей. Самого стало всё чаще «прижимать» в боку, иногда так скрутит – прямо пружины сворачиваются. Неужели он когда-то нравился сам себе? Тогда ничего нигде не болело, неприятности проходили быстро, а теперь-то… Раньше и соседи их семейством живо интересовались, а сейчас резко поутихли и присмирели, да почти забыли о них.
Одно только Кресло числилось в приятелях;
да и кто кому особенно нужен,
когда у старости свои заботы?
...Однажды Кресло так и не дождалось, когда придёт Диван на вечерние посиделки. Оно, недолго собираясь, подкатилось расшатанными движениями к гостиной – никого нет. Тогда направилось напрямик к Тахте. Не успели двери её комнаты распахнуться, как на пороге появился Комод, осунувшийся и постаревший за один день.
– Всё, можешь не кататься без толку туда-сюда, – сказал Комод удрученно. – Успокойся, да силы побереги.
– А где… Где они? – Кресло попыталось протиснуться в узкую дверь, оттесняя Комод правым боком.
– Экий ты непонятливый, – остановил его Комод. – Ну, нету их больше, нету, ясно?
– Как – нету? – обомлело Кресло.
– Так… Сегодня утром обоих вынесли… на свалку, – с грустью произнес Комод.
– По… Почему? – едва пролепетало Кресло, не в силах быстро освободить проход и понимая, что спрашивать дальше глупо.
– Потому… – отвечал Комод. – Вместе в наш дом приехали, вместе его и покинули – в один день.
– В один день… – Кресло всхлипнуло, взвизгнуло, развернулось на крепких ещё колесиках и покатило восвояси: следует поберечь себя, ведь ему не с кем в один день…
 Пока не заболеешь, на жизнь смотришь совсем по-другому… Мария не припоминала, чтобы так заболевала раньше. Началось с небольшой простуды, потом «прицепилось» – ангина, кашель, ОРЗ; дальше – осложнения: миозит, остеохондроз… и прочее. Муж настоял, чтобы положили в госпиталь, мама обещала, что с детьми справится. Положили в неврологическое отделение. В палате, где находились еще три женщины, Марии не понравилось, и не потому, что там было плохо, а, наверное, просто болеть не привыкла. Да и соседки (хоть и ни ей, ни друг дружке не ровесницы) говорили об одном и том же: о болезнях, семейных неурядицах, а чаще пересказывали разные сплетни. Мария старалась помалкивать, не ввязываясь в разговоры. Зачем ей это? Скорее бы, скорее вылечиться и уйти домой – вот чего ей хотелось с самого начала. Почти всю первую неделю не вставала – только в столовую да на уколы, прогревания, анализы...
Пока не заболеешь, на жизнь смотришь совсем по-другому… Мария не припоминала, чтобы так заболевала раньше. Началось с небольшой простуды, потом «прицепилось» – ангина, кашель, ОРЗ; дальше – осложнения: миозит, остеохондроз… и прочее. Муж настоял, чтобы положили в госпиталь, мама обещала, что с детьми справится. Положили в неврологическое отделение. В палате, где находились еще три женщины, Марии не понравилось, и не потому, что там было плохо, а, наверное, просто болеть не привыкла. Да и соседки (хоть и ни ей, ни друг дружке не ровесницы) говорили об одном и том же: о болезнях, семейных неурядицах, а чаще пересказывали разные сплетни. Мария старалась помалкивать, не ввязываясь в разговоры. Зачем ей это? Скорее бы, скорее вылечиться и уйти домой – вот чего ей хотелось с самого начала. Почти всю первую неделю не вставала – только в столовую да на уколы, прогревания, анализы...
В голову приходили разные мысли, иногда самые нелепые!
И зачем жизнь устроена так, что люди должны болеть?
Уже в первые дни она заметила, как по вечерам в коридор из предпоследней палаты выезжал в кресле-каталке, ловко с ним управляясь, молодой еще человек. Однажды, проезжая мимо Марии, задержавшейся у кабинета дежурной медсестры, он обронил на пол свернутую в трубочку газету. Мария тут же нагнулась, хотела поднять…
Подняла, конечно, но еле разогнулась: спину пронзила боль.
– Ну, зачем же вы так… – сказал он. – Я бы смог и сам – нет, не сам, а кто-нибудь помог бы. Зря вы, небось, себе навредили!
– Ничего, сейчас полегчает, – ответила Мария, вымученно улыбнувшись. – Простите, пойду к себе.
В палате спросила у сестры, которая принесла вечерние градусники:
– Кто это у вас на коляске разъезжает?
– А, это Анатолий Скуратов, наш, наш больной, – отвечала та на ходу. – Несколько раз в году его лечим.
– Что же с ним?
Медсестра посмотрела на нее снисходительно и покачала головой:
– Мария Афанасьевна, у него – совсем не то, что у вас, да и у всех остальных. Не озадачивайтесь. Поняли?
На другой день пришел муж, Валерий, принес, что Мария просила. Передал привет от домашних, с работы.
– Что, лучше тебе? – спросил он.
– Конечно, – улыбнулась Мария, не привыкшая к долгим разлукам с семьей, с Валерой. – Разве может стать хуже, когда сразу столько людей заботятся обо мне?!
– Чего народу говорить?
– Это и говори. – Она вспомнила, что... – Валера, кстати: наверное, недели две проваляюсь тут. Представляешь?
– И ладно, – он смотрел на Марию с нежностью; чувствовалось, что устал, замотался. – Не переживай. У детей все в порядке. Скоро каникулы – норовят на улицу, за уроки не усадить. Правду сказать, скучают они без тебя… Олечка прямо рвалась сюда, а Кирилл приказал, чтобы ты отлеживалась, мол, намаяться еще успеешь!
– А мама как?
– Ну, Анастасия Григорьевна не унывает! – Валера засмеялся, вспоминая напутствия тещи, какими она провожала его сюда. – Велела о детях не беспокоиться, ко всему относиться с терпением.
– Я тоже сильно соскучилась, – вздохнула Мария. – А Оля исправила тройку по русскому?
– Вот и не знаю… – Валера наморщил лоб. – Да забудь ты пока обо всем! Исправит еще, успеет к концу четверти, я проверю. А ты давай держись, полечись тут, даже если поскучать придется, лишь бы поправилась. Смотри у меня, лечись как следует… – он вспомнил о своих делах, которым не было конца и края. Посидели еще немного, поговорили… – Ну, давай, не грусти напрасно, а мне пора.
– Уже?
– Ага, – Валера засобирался. – Не провожай, сам дорогу найду.
Через несколько дней Марии разрешили гулять во дворе. Только одеваться – теплее: весна обманчива! Мария что-то не решалась высунуть нос на улицу, отвыкла от прогулок до такой степени, что даже в холл выходила только изредка.
Выезжал туда же и Анатолий. В этот раз Мария увидела его, подошла.
– Как дела, Анатолий? Мне сказали, что вас так зовут.
– Да, меня все знают, – медленно, немного запинаясь на согласных звуках, произнес он. – А вас как величать?
– Меня? Мария Филатова, Мария Афанасьевна – просто Мария,– она не знала, о чем можно говорить с человеком, больным так… так серьезно. – Я давно не лежала в больницах, а теперь угодила… Но, думаю, дело идет к завершению, скоро выпишут.
– Замечательно, а меня – не скоро, как минимум через месяц.
– Боюсь и спросить: почему?
– Вот и не спрашивайте! – махнул рукой Анатолий, криво усмехнувшись. – Ладно, поеду. Скоро ко мне гости придут, хочу их встретить. Отвезут в душ, помоют, то да се. До свидания!
Мария вернулась в палату, прилегла, задумалась... Жалко парня! После ужина пошла позвонить домой: там все хорошо. Валерия Игнатьевича посылают в командировку на неделю, по его снабженческим делам, но раньше, чем через неделю, ее и не выпишут. Хочется, хочется вернуться, уже надоели казенные стены! На работе близится квартальный отчет, да и маме нелегко ухаживать за детьми, управляться по хозяйству…
На другой день пришли две девочки с работы, принесли огромную сумку гостинцев.
– Да куда ж столько, мне не осилить! – удивилась Мария.
– Ничего, поправляйтесь, Мария Афанасьевна; это от чистого сердца – наши собирали!
Что тут делать? Сумка тяжеленная! Оставила пока в палате, а вечером спросила у медсестры:
– Можно ли угостить чем-нибудь этого… Анатолия Скуратова?
– Почему нельзя? Конечно, можно, ведь к нему особенно часто не приходят, пусть порадуется.
Мария сложила банки-склянки, фрукты и конфеты в пакет; подошла к нянечке, просила передать. Та тут же и отнесла, одобрительно взглянув на Марию. Утром Марию вызывали к начальнику отделения, на консультацию. Решили, что добавят новые лекарства, уменьшат количество уколов, отменят физиотерапию. Да! Выпишут к понедельнику.
После тихого часа Мария сходила на массаж, потом отдохнула – посидела в холле, поразмышляла о себе. Сколько можно киснуть? Все, хватит болеть, размышлять, без дела маяться, пора встряхнуться… Вернулась в палату, вытащила сапоги, шапку, надела пальто прямо поверх махрового халата, намотала на шею платок, вышла на улицу: надо же заново привыкать к здоровой жизни, к свежему ветру! Во дворе встретила Анатолия, все на той же коляске. Он был одет в куртку, ноги укутаны одеялом. Рядом приятный мужчина нетерпеливо прикуривал сигарету.
– Мария Афанасьевна! – поприветствовал ее Анатолий. – Как я рад! А со мной – Федор, мой друг с детства. Федя, ты что, уже уходишь?
– Ага, только завезу тебя в палату. – Федор посмотрел на Марию с напускным безразличием, сделал две короткие затяжки и поправил одеяло на ногах у Анатолия.
– Не, в палату меня не надо, – остановил его Анатолий. – Это я и сам умею. Мы тут с Марией погуляем немножко. Ладненько?
Мария сказала, что может погулять, но не больше получаса.
– Вот и я столько же. До свидания, Федя, – Анатолий улыбнулся.
– Звони, если что. Ну, будьте… – Федор ушел, подкатив Анатолия к широкой асфальтовой дорожке: по ней будет удобнее ехать. Анатолий проводил его долгим взглядом и, взглянув на Марию, взялся за рычаги управления. Коляска покатилась довольно легко, Мария шла рядом.
– А вы сами сможете… – она никогда раньше не присматривалась, как передвигаются инвалиды на колясках без посторонней помощи, да и почти не сталкивалась с этим. Да, не позавидуешь.
– Еще и как смогу, вас, Мария Афанасьевна, беспокоить не стану, – опередил Анатолий возможные вопросы.
– Я вовсе не к тому сказала, не к тому хотела спросить...
– Ладно, понял, – Анатолий покатил коляску быстрее, и Марии пришлось прибавить шаг. – Спасибо за вчерашнее угощение. Вкусно – полжизни бы отдал! Нет, это просто шутка такая. Не подумайте, что я с голоду пухну.
– Нечего мне думать! – Мария встряхнула головой, отгоняя пустые мысли.
– Вот и ладненько.
Мария с удивлением наблюдала, как быстро Анатолий работает руками, как ловко обращается с коляской, как размеренно вращаются ее колеса. Казалось, все получается легко и просто!
– Что, раньше такого не видела? – спросил Анатолий, наблюдая, какой эффект производят его действия на Марию.
– Видела, наверное, но… не так близко.
– А, это… Это, знаете, может случиться, ну, не с каждым, конечно…
– Я думала, что такие болезни – с детства, – осторожно произнесла Мария, не зная, что вообще говорить.
– Не с детства, хотя… – Анатолий догадывался, что Мария не имела представления о подобных заболеваниях. – Вижу, вы меня жалеете. Я бы и сам себя жалел, да поздно уже.
– Как же… Как это произошло? – вырвалось у Марии.
– Интересуетесь? – Анатолий усмехнулся. – Не обижайтесь, я… не к словам цепляюсь… Просто устал я от своего положения, устал ждать, что будет хуже и хуже.
– Почему нельзя ждать улучшения? – удивилась Мария.
– Зачем ждать того, что не будет никогда?
– Никогда?
Анатолий остановился и спросил, глядя на Марию пристально:
– …Мария, простите, сколько вам лет?
Мария в ответ пожала плечами:
– А что? Это имеет для вас значение?
– Нет, но мы, я вижу, близки по возрасту – значит, вам легко сопоставить… – Анатолий неожиданно замолчал. – Мне тридцать девять лет, и десять из них я болею, а восемь – фигурально выражаясь – прикован к этому креслу. Видите?
– С вами что-то случилось? Как раз восемь лет назад? – осторожно спросила Мария, прикидывая, что у нее было в то время.
– Вот, вот… Скажи кто раньше, ни за что бы не поверил. Жил себе и жил, да так, что завидовали – через одного. Теперь-то – было бы чему... Врачи говорят: рассеянный склероз. Это неизлечимо.
– Я ничего не слышала о таких болезнях и таких диагнозах.
– Бог тебя миловал, прости, что обращаюсь на «ты». Можно? – Анатолий улыбнулся.
– Конечно, можно: мы же почти ровесники, – ответила Мария. – Но… как же так? Чтобы не было улучшения? Ведь любая болезнь, наверное, как-то поддается лечению.
– Любая? – Анатолий бросил острый взгляд на Марию, вздохнул. – Куда там! Угораздило же меня… Ты – такая деликатная, воспитанная, угостила меня давеча… Очень вкусно, спасибо тебе… Я за тобой наблюдаю, я внимательный; встретил бы я тебя раньше, да не болел бы при этом… – Анатолий помрачнел, но тут же придал себе бодрости: – Эх, устроен-то я был хорошо! Женился по душе, жена – красавица. Родился сын. Все выходило отлично. Преград на пути не было, никто не мешал, начальство уважало, все проблемы решались быстро, в два счета. Носил я погоны; как закончил училище – сразу попал в транспортную милицию. Там и работал… Слышала про такую службу?
– Никогда, – отвечала Мария, которая и на самом деле никогда ничего общего не имела ни с милицией, ни с транспортной милицией. Она удивлялась, да не очень – чего только на свете не бывает!
– А я долго работать собирался. И не нужно мне было в каких-то очередях на квартиру стоять, на машину – тоже, добывать товары и продукты – не приходилось. Мы такой контингент обслуживали, что все это нашему брату полагалось без проволочек. Поняла? Квартира у меня была – игрушечка, обставлена по последней моде; хрусталь, ковры, мебель… Жене – подарки, наряды, все в дом тащу. Сыну – уж ему-то только «птичьего молока» не хватало, да со временем раздобыл бы. И вдруг… – Анатолий запнулся на полуслове, припоминая неприятные подробности. – Обычный грипп; ну, болел – на бюллетене, правда, долго не сидел, волка ноги кормят… Работал, работал, да чувствую: не то, с силами собраться не могу, а расползаюсь, как медуза, по дну – все сильнее развозит и развозит. Ну, меня к врачам в те годы было палкой не загнать, да если с постели не встать – какая тут работа? Вот так... Забрали в госпиталь, обследовали, поставили тот самый диагноз.
– Сразу же?
– Почти.
– Лечили? – спросила Мария. – То есть правильно лечили?
– Лечили, еще и как, а вот чем и правильно ли, нет ли – даже не спрашивай… Главное, что время летело, а ни на грамм не становилось лучше; выписывать на работу не собирались. Промаялся полгода. Представляешь? Все, вышел в тираж. Дали группу. Комиссовали. Кинули пенсию – три копейки; потом, правда, чуть-чуть прибавили, спасибо начальству, похлопотали за меня...
– Так все просто? – удивилась Мария. – А семья, жена?
– Вот то-то, что жена… – тут Анатолий словно споткнулся обо что-то. – Врачи ей обрисовали положение, объяснили культурно. Она – ко мне: «Разводимся, сына беру с собой, квартиру делить не будем, тебе на работе комнату отдельную дадут – пообещали». А я все в госпитале лежу, понимаешь? Притаскивает хахаля, говорит: «За него замуж выхожу». Представляешь? «Подпиши, – твердит, – документы, мы тебе все без хлопот оформим. Не подпишешь – хуже будет».
– Но… разве нет законов на этот счет? – неуверенно спросила Мария.
– Куда хватила! Законы есть, но как говорил один мой друг, мы привыкли жить не по законам, а по понятиям. Чего-то добиться можно, если силы на это иметь… – невесело усмехнулся Анатолий.
– А сын? – спросила Мария так, словно о своем ребенке.
– Что – сын! – Анатолию тяжело и больно было объяснять свою историю до конца, но раз уж начал… – Ему тогда пять лет исполнилось. Жена сказала: мол, раз в месяц будешь с ним встречаться, если захочешь. А вообще – ни к чему… Меня все это окончательно… в медузу превратило бы, но друзья не дали. Вот ты Федю только что видела: работали-то вместе недолго, близкими приятелями не считались. Помогал я ему несколько раз, и он – мне, иногда, по мелочевке… Не думал, не гадал, что человеком окажется, а он – вот те на! – тогда первый ко мне прибежал, весь мой расклад узнал, с юристами своими советовался. Он же и в комнату новую меня определил, он да еще один капитан. Вон как! Кто б подумал? Так вдвоем за мной и ухаживали – не в службу, а в дружбу, как говорится. Понимаешь?
Мария не ожидала таких откровений; но понимающе кивнула.
– У меня ведь родных нет совсем, только брат в Белгороде, – продолжал Анатолий. – Родители померли недавно там же, в Белгороде... Есть и школьный друг, Иван Рябичев, с которым… Ну, повздорили мы когда-то по глупости, разбежались в разные стороны. Федя его нашел, расписал мои беды-горести, так Иван моментально, в тот же день прибежал ко мне. Думаешь, у него своей семьи нет? Семейка еще та... Но звонить ему можно и днем, и ночью. Вот, видишь, и коляску эту достал: хорошая штука, удобная. Без друзей-то я теперь – полный труп.
…Не будь у Марии живого воображения, история Анатолия лишний раз доказала бы ей, как мало можно уповать на прочность семьи или надеяться на благодарность общества. Но она принимала все близко к сердцу и невольно принялась переживать за Анатолия, как за близкого родственника – прониклась по-настоящему.
Но что же делать, что ему отвечать, ведь он ждет!
– Анатолий, – сказала она, – я мало понимаю в медицине, хотя моя мама всю жизнь медсестрой-акушеркой работала. Сама я – на заводе, в отделе кадров, ничего интересного. Не знаю, чем бы тебе помочь: мои знакомые – совсем не те люди. У тебя дома телефон-то есть?
– А как же! – обрадовался Анатолий, польщенный вниманием Марии. – Мне это положено; прямо в моей комнате и стоит, на тумбочке возле кровати. В прихожей – общий, для соседей, они у меня хорошие. Хочешь мне домой позвонить? Мне можно надеяться?
– Попробую что-нибудь узнать для тебя, – отвечала Мария. – Только не знаю, получится ли. Оставлю тебе свой телефон, даже два: домашний и рабочий – вдруг пригодятся.
За разговорами они не заметили, что оказались почти у госпитального крыльца. Мария почувствовала, что немного озябла. А как Анатолий? Он улыбнулся ей, мол, все нормально! Она пошире распахнула двери.
Анатолий произнес, заезжая:
– Спасибо, добрая ты душа. Встретил бы тебя раньше…
***
Марию выписали, как обещали; бюллетень не продлили, а сразу – на работу. Мама, Анастасия Григорьевна, сказала, что раньше-то больным давали долечиться до конца. Мария тут же вспомнила Анатолия, пересказала его историю – как ему «дали вылечиться» и до какого конца... Домашние посочувствовали для приличия, но увидев, как на Марию подействовал этот Анатолий, остались недовольны. Валера образумил ее: не надо так реагировать на чужое несчастье. Вот как? Мария не обиделась на мужа, хотя и не согласилась с ним: от чужого до своего – один шаг! Ей хотелось навестить Анатолия, пока тот еще оставался в госпитале – не сумела: дела навалились со всех сторон, скучать или заботиться о новых знакомых было недосуг.
Анатолий позвонил сам месяца через два, спросил, не забыла ли его Мария, а она – обрадовалась, сказала, что помнит, конечно же.
– Как себя чувствуешь? – спросила она.
– Ничего. Вроде, справляюсь, – Анатолий отвечал бодро. – Даже могу приготовить себе завтрак, сварганить обед. На кухню – на коляске, катаюсь вовсю, коридор позволяет. В основном, приплачиваю соседям, чтобы покупали на мою долю продукты и готовили, а больше их почти не беспокою. Ну, ванную занимаю раз в неделю, когда ребята меня купать приходят… Ты уж звони, пожалуйста, хоть голос твой услышу.
– С сынишкой-то видишься?
– Ага, недавно привозили ко мне. Так и просидел на стуле возле шкафа, близко не подошел. То ли сам брезгует, то ли мать научила меня остерегаться... Пока еще ничего, видать, не понял, а ведь не маленький, скоро четырнадцать стукнет. У тебя дети-то есть?
– Разве я тебе не говорила? – спохватилась Мария. – Сыну – пятнадцать, дочери – десять. За ними нужен глаз да глаз. Мамочка моя меня просто выручает; она всю жизнь с нами живет. Мы с мужем работаем от звонка до звонка, а она у нас – домоправительница и воспитательница.
– Прости, что отнимаю время. Позвони, когда сможешь.
…Анастасия Григорьевна слушала этот разговор и ворчала в сторонку: мол, разве можно помочь всем без разбору? За долгие годы медицинской практики она столько раз сталкивалась с бедой, разбитыми жизнями, смертью! Хорошо, хоть – внуки здоровенькие, правда, Олечка слабовата. Надо закаляться! Машенька-то в детстве болела, особенно лет до пяти, потом выправилась, подросла. Так-то и в каждом доме – что-нибудь, да не все – слава Богу, но не станешь же из-за этого…
– Мама, ты уж не записывайся в закоренелые эгоистки, – остановила ее Мария. – Анатолий ни на что не претендует, поверь. Ему нужно, прежде всего, человеческое участие. А чтоб у нас в семье несчастий больше не было, лучше бы не отворачиваться, к примеру, от Анатолия. Неужели тебе еще нужно что-либо объяснять, когда ты с отцом прожила двадцать лет, с человеком, который погибал, но товарищей выручал.
– Выручал-то он, конечно, выручал, – только и сказала Анастасия Григорьевна. – Выручил бы кто его – когда он…
Анастасия Григорьевна, степенная и рассудительная, прежде никогда и ничего не осуждала без повода, но смерть мужа, погибшего под снежной лавиной в горах Тянь-Шаня, здорово подкосила ее и поубавила степенности. С годами боль притупилась, однако чувство обиды на тех, из-за кого, как она понимала, погиб Афанасий Леонидович, осталось в ее душе навсегда, и никуда от этого не денешься...
Мария знала, как тяжело матери, и поэтому попросила ее:
– Мама, успокойся, пожалуйста, будь так добра, и пойми: тогда, наверное, папе нельзя было помочь, а теперь вот – Анатолию – надо попробовать помочь, или хотя бы посочувствовать. Ведь он так одинок!
Нет, Анастасии Григорьевне затея дочери не понравилась, да подумала: пусть пока все останется, как есть, а там видно будет, может, и не всплывет эта тема. Мария, напротив, решила больше никому ничего не рассказывать, а позванивать Анатолию – по мере возможности – почаще.
...Лето обещало быть погожим – хорошо бы! В середине июня Анастасию Григорьевну с детьми отправили на дачу, сами с Валерой занялись ремонтом квартиры: уже лет пять собирались. Замечательно, что за лето управились с ремонтом, думали – не успеют. В сентябре дети пошли в школу – закрутился новый хоровод хлопот. На заводе у Марии началась реорганизация, пошли перестановки, и начальство предъявляло к сотрудникам все новые требования. Она замоталась, заработалась – и Анатолию сумела дозвониться только в ноябре, с работы, в обеденный перерыв. Трубку долго не брали. Мария перезвонила. Трубку взяли, только голоса слышно не было: лишь шипение и возня. Она хотела положить трубку, но наконец раздался приглушенный голос Анатолия:
– Мария, это ты?
– Я. Почему сразу трубку не берешь?
– …Долго тянулся, – его голос показался очень слабым. – Ребята поставили аппарат на другой конец тумбочки. Еле достал.
– Расскажи, как дела.
– Плохо… Врачиха приходила, говорила, что дальше будет хуже. Надо куда-то ложиться.
– Может, тебе лучше определиться в специализированное учреждение? – спросила она, припомнив, что существуют какие-то дома или пансионаты для инвалидов. – Разве нет таких?
Анатолий нервно засипел, трубка шипела и трещала. Погодя сказал:
– Ребята мои все разузнали… Какие дома-терема? Кому и где я нужен? Ясное дело: держись, говорят, до конца, там – труба дело. Поняла? Держусь вот… Стараюсь не расклеиваться…
– Давай, смотри мне! – постаралась подбодрить его Мария.
– Смотрю… – Анатолий примолк. – Раньше все сокрушался о прошлом, а теперь научился мириться с настоящим – другого-то нет...
– И правильно…
– Знаю, – Анатолий словно преодолел неприятные воспоминания и сказал повеселее: – А еще у меня – новшество: Иван заказал где-то пульт дистанционного управления для телевизора, принес и настроил – здорово! А то я сидел в четырех стенах, и что вокруг делается, не знал. Скоро телефонный аппарат с большими кнопками притащит, чтобы мне было удобно управляться с ними. Да и так, другие «подпорки и крючки» под меня приспособил, это тебе не очень интересно, наверное.
– То есть тебе все хуже, – все-таки сделала неутешительный вывод Мария. Кнопки, крючки, подпорки...
– Не буду нагнетать… Пока – не хуже. Лекарства, продукты – все с доставкой – ребята стараются. Только кто бы еще новые мысли пристегнул к моим старым мозгам!
– Ну, не раскисай. Скоро позвоню. Счастливо.
Мария положила трубку. Да, не позавидуешь.
Дома все-таки собралась с духом и спросила у мужа:
– Валера, а в инвалидных домах очень плохо?
– Что, там еще твоя нога не ступала? – Валера словно ждал, что Мария заговорит об этом, и нарочито строго начал выговаривать: – Ты на что нацелилась? Может, будешь в собесе работать на общественных началах или благотворительный фонд откроешь? Попечительница безотказная... Если бы я тебя не знал! Давай-ка я позвоню этому твоему подопечному, разберусь с ним, все объясню, по местам расставлю!
– Да что ты! – одернула его Мария. – Как ты можешь судить о человеке – ты его даже не видел ни разу! Ну, маму я понимаю, а ты? Ведь точно знаю: ты не такой бессердечный, каким хочешь показаться. Эх... Но не буду, не буду больше об этом… – Мария обиделась до слез. – Анатолию и без меня люди помогают, а я – просто, из вежливости…
– Ах, ты Машка-ромашка! – засмеялся Валера, разгоняя набежавшие было тучи, и обнял пригорюнившуюся Марию с жаром. – Так я и поверил… Ведь за это я тебя и полюбил когда-то, за сердце твое беспокойное… Помнишь, как мы познакомились? Не забыла еще?
Еще бы Марии не помнить их первой встречи, случившейся в деревне у бабушки! До сих пор она частенько вспоминает, как все произошло – после третьего курса, на летних каникулах… Однажды, поздно вечером, выбираясь с корзинкой грибов из лесу, она выходила на дорогу. Издалека заметила, как молодой парень тащит к машине какого-то человека. Парня она, кажется, встречала в деревне, а другого – никогда раньше не видела, однако не испугалась и подошла к ним поближе. Оказалось, молодой парень, Валерий, случайно обнаружил неподалеку тяжелораненого лесоруба и не смог оставить его без помощи. – «А как же все вышло? Где его начальство, например?» – «Лучше не спрашивать…» – Уже второй месяц за ближним лесом рубили просеку под железнодорожное полотно, и вот сегодня – на тебе! Мария поняла, что беднягу нужно срочно отвезти в город, а не в сельский медпункт, как собирался Валерий, потому что помочь ему могли только в больнице.
Тем более – в медпункте никого и нет – на ночь-то глядя!
Так и села в незнакомую машину с незнакомым человеком; так и отвезли лесоруба в районную больницу скорой помощи – там его вовремя прооперировали, спасли, значит. Словом, так и познакомились они с Валерой, а бабушка – та расхваливала его своей внучке: смотри, мол, какие у нас ребята-молодцы, не то что ваши, городские!
Давно все было, да очень хорошо запомнилось…
Валерий Игнатьевич тоже ничего не забыл. Ему пришлись по душе милые привычки Марии, которые не изменились с молодых лет, правда, иногда удивляла ее почти детская наивность во многих взрослых вопросах, особенно если дело касалось чего-то весьма отвлеченного, общественно-полезного – ну, как в кино про героев-комсомольцев тридцатых годов, ставших «образами для подражания в массах». До смешного доходило! Например, узнает, что случилась какая-то неприятность у соседей по лестничной клетке – тут же бежит к ним: не помочь ли чем (зачем помогать-то, когда эти пьяницы сами виноваты?); услышит, что в школе до сих пор не топят и дети болеть начали, звонит учительнице: спрашивает – все ли окна заклеены к зиме (что толку чего-то заклеивать, когда здание построено с учетом экономии – во все щели ветер свищет!); увидит в телевизионных новостях какую-то заваруху или беду, тут же заикнется: а как люди (как будто ее первейшая и прямая обязанность – заботиться о чужих людях)?! И это – искренне... Кажется, теперь все привыкли больше думать о себе и о своих, а она…
– Жалко парня, жалко… – вздохнул Валерий. – Уж звони этому Анатолию, только знаешь, что? Пользы от твоих или моих звонков будет мало. Я кое-что узнал – и ничего утешительного сказать не могу. Поспрашивал у своих ребят, наводил справки у наших дотошных медиков (специально в энциклопедиях копались!) – все говорят: ремиссия растягивается до нескольких лет, а случается, больной и скоротечно умирает – за несколько месяцев. Относись ко всему этому спокойно. Ладно? Ты мне дорога, у нас двое детей… Да мне ли убеждать тебя? У нас в семье кто-то кого-то бросал? Вспомни! Вот так. Люблю я тебя, за это, наверное, и люблю… – Валерий расчувствовался, думая о том, что любому человеку можно угодить в такую беду, откуда не будет выхода назад... Не каждому везет!
Ох уж, Валера, истинный отец семейства – оберегает покой семьи... С тех пор Мария решила, что будет звонить Анатолию только с работы, чтобы не тревожить домашних. Девчонок в отделе не посвящала в свои заботы, да их-то, молодых, чужие беды не интересовали. А вот Анатолия... Иногда он отвечал сразу же, а то поднимали трубку соседи, сдержанно отвечали, что Анатолий, наверное, спит, или – что не может говорить, или – что к нему пришли. Марию это успокаивало ненадолго. Хорошо, что, по всей видимости, Анатолия в квартире не притесняют.
Дома об Анатолии больше не заговаривала.
Прошло некоторое время, и Мария успела привыкнуть к мысли, что ее домашние потеряли интерес к ее «опекунству». Но как-то раз, на кухне, перед тем, как бежать на вечернюю тренировку по баскетболу, Кирилл неожиданно спросил Марию, что там творится у Анатолия. Мария оглянулась, прикрывая дверь: не слышит ли мама или Валера. Да нет, вроде бы, они заняты другим. Кирилл же, уплетая третью котлету прямо со сковородки, проговорил нарочито небрежно:
– Ты, мам, можешь на меня рассчитывать. Если надо, могу полы у него помыть или в аптеку сходить. Петьке я рассказал, ну, и он тоже… Ты не думай, мы все понимаем, и вспомни, как у Петьки долго болел дедушка – мы и ему помогали, тебе с папкой не докладывали...
– Ишь ты, Тимур, Тимур и его команда! – засмеялась Мария, потрепав сына за вихры. – Надо будет, скажу. Когда пострижешься?
– Ты чего, мам… – мотнул головой Кирилл. – Так – самая мода. Мы с Петькой соревнуемся, кто из нас будет больше на того футболиста похож – ну, из рекламы. Да ты его не знаешь! А у Олечки-то… Ой, забыл, что это тайна! – спохватился Кирилл.
– Вот и забудь, бестолковый… Козлятки вы мои глупые…
Распахнулась дверь, и влетела Олечка, то ли догадавшаяся, о чем они говорят, то ли краем уха услышавшая весь разговор. Подбежала, обняла Марию, запрыгала рядом, подпевая:
– Ах ты, мама-коза,
Голубые глаза:
Молоком она готова
напоить всех подряд,
Только бабушка и папа
не велят, не велят!
– Умора с вами! Какие у вас тайны? – засмеялась Мария. – Да и от вас никакой тайны не удержишь. Додумались же, сочинители мои ненаглядные! В школе-то за сочинения что ставят? Вот то-то…
***
Весной Анатолий почувствовал себя гораздо хуже, становился все беспомощнее – это определялось даже по телефону: голос казался совсем сиплым и глухим, то и дело срывался и останавливался. Слова все более растягивались, некоторые фразы выговаривались словно пунктиром, интонации выдавали с головой. Речь все более напоминала заигранную пластинку:
– О-о-о, Мария Афанасьевна! Сейчас вот, погоди, ся-я-яду получше… Все, уже, все… Ну, как ты там?
– Ничего, в порядке. А ты? Говори все как есть.
– Как есть? Уж чего нет, того нет, а что есть… Дур-р-рацкая память моя, чтоб ей куда-нибудь провалиться, так нет же. Это я скорее провалюсь, чем… чем… чем она. И худо мне, худо… Спроси: что болит? Отвечу: холод по всему телу, озноб; почему-то на бок валит… Прости, прости, что время твое занимаю.
– Мне интересно, что говорят врачи, – настаивала Мария.
– Врачи свое дело зна-а-ают. Надоели они мне, а я – им, и в поликлинике, и в стационаре. На днях положат в центральную городскую больницу, в ЦРБ, на плановое лечение, недели на три-четыре, обещают, по крайней мере. Сестрички там хорошие, а врачи – так себе...
– Точно положат? А навестить тебя будет можно?
– Точно. Уже оформили заявку, вчера сестра приходила. Приходи, если захочешь, не возражаю…
Мария решила, что навестит обязательно, и лучше, конечно, прийти в больницу, чем домой к незнакомым людям. Долго не могла выкроить время. А ведь надо, надо… Наконец собралась. Предварительно позвонила в справочную часть и спросила, пускают ли к больному, что разрешается принести из продуктов. Ответили, что Анатолий Скуратов лежит в отдельной палате, что пускают в часы приема посетителей. Успела прийти впритык, в воскресенье, чувствуя, что скоро могут и выписать – шла и боялась увидеть тяжелобольного человека, лицо которого почти забыла, а голос, наверное, не забудет никогда.
Корпус больницы – двухэтажный, Анатолий лежал на первом этаже. «Хорошо, что на первом – удобно выезжать на улицу», – подумала она, проходя по отделению. В узком коридоре прогуливались два-три человека, один из них прихрамывал; еще двое сидели на стульях, глазея по сторонам. На посту никого не было, палата Анатолия – в самом конце, дверь приоткрыта. Мария вошла и словно натолкнулась на незнакомого, неуклюжего с виду человека, примостившегося на стуле возле самого входа. Напротив него – кресло-каталка, в котором полусидел-полулежал Анатолий. Его было почти не узнать – против того, что было год назад: очень похудел и сник, вроде как сжался. Увидев гостью, заулыбался.
– А-а-а, пришла все-таки… – произнес он нараспев. – А я, видишь, не один. Это мой друг, я про него рассказывал, Иван Рябичев, старинный мой друг, одноклассник. Зна-а-акомьтесь, пожалуйста.
– Очень приятно, Мария, – произнесла она сдержанно.
– Рад встрече, Иван, – и он поднялся, поздоровался с Марией, о которой столько наслушался от Анатолия. – Толя мне рассказывал о вас, и спасибо вам за участие и заботу.
Мария стало очень неловко, и чтобы преодолеть эту неловкость, она тут же принялась разгружать сумку – выставила на стол банку с вареньем, виноград и коробку с песочным тортом.
Анатолий обрадовался по-детски:
– Будем чай пить! Варенье-то кто варил?
– Я сама и варила, клубничное, ягоды – с нашей дачи. – Мария уже успела оглядеться и немного освоиться, стала открывать банку и тут уже заметила кое-что, не соответствующее обычной больничной обстановке.
– А что это за склад под кроватью? – спросила она, отставляя банку.
Анатолий взглянул на Ивана:
– Ну-у-у, брат, засекли! Так что показывай скорее – ведь и я еще всего не видел! А то только и слышу: та-а-ам – был, то – нарисовал, это – дописываю! – Анатолий обратился к Марии: – Иван – художник, пре-е-е-дставляешь? Учился когда-то в Строгановке, да он и сам расскажет, если захочет. Ну, давай, давай, пока никто не пришел! – поторопил он.
– Хотите? – спросил у Марии Иван.
– Конечно, – отвечала Мария неуверенно.
Иван выглянул за дверь, проверить, что там, в коридоре: кажется, относительно спокойно. Он поплотнее притворил дверь в палату, достал на свет все, что было под кроватью, и, освободив от упаковочной бумаги, расставил на самой кровати, на полу – по всей комнате, где только хватало места – десятка три произведений.
– Вот, смотрите!
Мария смотрела... В основном – пейзажи, натюрморты, портреты, несколько рисунков. Она не очень разбиралась в изобразительном искусстве, но кое-что ей показалось приятным. Стала рассматривать внимательнее: некоторые наброски понравились, другие – вызывали удивление, а несколько работ встревожили, навеяли неясную тоску. Откуда все это? И как оно – Анатолию, нужно ли ему? Может, отвлекает от болезни, а может, раздражает? Взглянула на больного. Он улыбнулся и кивнул: смотри, мол, что мой друг изобразить удосужился! В общем, любопытно, что-то в этом есть. Только кто это видел и увидит?
Последняя, самая большая, плотно обернутая простыней картина, стояла у стены за кроватью, и было видно, что она – в раме.
– А это что? Покажите, пожалуйста, – попросила она Ивана.
– Эта работа не завершена, – ответил он смущенно.
– Ну и что, все равно интересно, – настаивала Мария.
Раз так… Иван отодвинул рисунки и эскизы, переместив их туда же, под прикрытие такой полезной для него кровати. Потом нехотя, неловкими движениями, вытащил картину, размотал веревки и тряпки, откинул в угол – повернул картину к свету, установив ее вдоль кровати.
– Вот. А смотреть нужно издалека.
Откатил кресло Анатолия в сторону, насколько позволяли размеры маленькой палаты. Мария подошла и встала там же.
На картине была изображена женщина, стоящая на розовых мраморных плитах, устилавших побережье океана. Океан поднимался ей навстречу задиристыми волнами; одна из волн почти легла на плоский мрамор, бережно опуская на него мужчину. Женщина держала в руках красивое, гладкое, глянцевое яблоко, протягивая его изумленному мужчине. Синие цвета океана и розовые тона суши оттеняли тела людей. Он и она – великолепно сложенные, обнаженные; обе фигуры расположены на равном расстоянии от центра картины. А яблоко… Красно-вишневое с прожилками яблоко было отправной точкой, центром симметрии, хотя это не подчеркивалось специально. Все на картине было подчинено этому яблоку, и убери его – остальное показалось бы нелепым… Удивительный сюжет! Марию удивила и рама; рама была неровной, с зазубринами, повторяла розовые цвета полотна. Общее впечатление, как ни странно, – впечатление реальности.
– Это акварель? – спросила Мария.
– Да.
– Простите, если скажу что-то не так, – она всматривалась в детали картины. – Я не слишком большой знаток… Но, если картина не завершена, то почему она – в раме?
– Рама – составляющая, важная часть композиции; жаль, что вы этого не поняли, – огорчился Иван. – Вот Анатолий сразу догадался. Я ему эту картину еще вчера показывал. Видите ли, здесь далеко не все закончено, и раму тоже надо доводить…
– Разве можно так – одновременно? – удивилась Мария. – Кто же делал эту раму?
– Я и делал, – отвечал художник сухо: недогадливость Марии раздражала его все больше, и ей становилось неловко.
– А я… – она задержалась, но докончила мысль. – Я такого не слышала, чтобы художники сами изготавливали рамы для своих творений.
Мария досадовала на свою «дремучесть». Анатолий, тихо засмеялся, прислушиваясь к их разговору, медленно подкатился к картине. Слегка наклонился, провел слабой рукой по верхней кромке рамы.
– Мария, да ты-ы-ы не обижайся на него. Иван – человек со странностями. Это я его знаю сто миллионов лет, хотя и с перерывами, а кто увидит в первый раз – сло-о-овно с цирковым клоуном познакомился, или жонглером. Да он-то все умеет, жаль, что слишком много за других старается. За меня-я-я – например… А знаешь, как эта картина называется?
– Догадываюсь, – Мария хотела хоть немного сгладить впечатление о своем кругозоре, создавшееся у Ивана, напрягла все свое воображение. – Примерно: «Встреча на меридиане», «Фантазия о яблоке», «Пробуждение чувств», или… «Морские грезы»... Так?
Анатолий взглянул на Ивана. Тот опять несколько сник:
– Я же говорил, что картина не закончена. Но название – окончательное: «Яблоко жизни». Сначала у меня появилась идея, название, сделал несколько вариантов. А картина… Как закончу ее, так яблоко и оживет.
Яблоко жизни? То есть яблоко – символ или смысл жизни?
Мария не сдавалась и продолжала интересоваться дальше:
– И все-таки – как вам это в голову пришло, если не секрет?
– Секрет? – Иван выразительно посмотрел на нее сбоку, исподлобья: – Секрет у меня только один – не скажу, какой, хотя Толик его отлично знает… А другим знать зачем? К названию картины это прямого отношения не имеет, а к самой картине – да.
Что Иван имеет в виду – что за секрет? Марии никак не удавалось выпутаться из того неудобного во всех отношениях положения, в которое попала, – она увязала все глубже. Тогда…
– Ладно, оставим все, не имеющее отношения... Но как же ваши картины оказались здесь, вместе с этим «Яблоком…»? – спросила она Ивана. – И как отреагировал на это персонал больницы?
Тут вмешался Анатолий, для которого короткая перепалка Ивана и Марии показалась неоправданно серьезной, несколько театральной – по сравнению с его-то проблемами.
– Как? – он глянул в сторону двери и понизил голос. – Да-а-а вчера вечером Иван подогнал машину аккурат к окну (хорошо, что первый этаж!), через окно и выгрузил коробки прямо ко мне, я просто оба-а-алдел. И… что? Да ничего… Все нормально! Никто и не пикнул. А сегодня утром сестричка пришла с у-у-у-колами, хорошая такая, пожилая, давно ее знаю. Увидела, конечно... Я все объяснил, она обещала сделать вид, что ничего не заметила. Да еще сегодня – воскресенье, никто и не придет, врач – только дежурный, а ему-то... А завтра выписываюсь. Ива-а-а-н же меня и заберет, заодно и картины. Понимаешь?
Мария перестала «накручивать» себя: разве за этим пришла сюда? Она еще раз подумала: хорошо, что успела навестить Анатолия вовремя – да вот и на Ивана посмотрела, на его работы... А Иван словно пробудился, загорелся желанием все объяснить – заговорил, волнуясь:
– Конечно, я мог бы и сразу к Толику домой привезти, ключи у меня есть, только машины под рукой не было, подвернулась – чужая. А к Толику – дальше, чем сюда – да и тоже временно… Догадался-то я правильно, лишь бы до завтра дожить! Сейчас нам главное – выжить и спасти рисунки. А там посмотрим, ведь так, Толя?
Анатолий кивнул, покачиваясь слегка... Спасти? От кого? Почему? Или творческими людьми движут особые причины? Непонятно... Мария хотела уточнить, но ждала, чтобы они сами все разъяснили. Спросила:
– Если вы все это перевезете, как решили, к Анатолию, как же Иван будет дописывать картину? Где? Ведь нужны какие-то условия, мастерская или…– и вообще много места!
– Разберемся, не сомневайтесь! – сказал Иван, выгреб остальные картины и рисунки из-под кровати и принялся упаковывать их. Мария хотела помочь ему, но он не разрешил. И правда – управился быстро, да и получилось компактно – всего-то два тюка. Картину с яблоком замотал в тряпки, обращаясь с ней очень аккуратно; потом задвинул все обратно под кровать, подальше к стеночке. Незаметно, вроде…
– Была у нас мастерская, здесь, неподалеку, – продолжил он свои объяснения, подбирая оставшийся на полу мусор. – Снимали ее вчетвером: два скульптора и два художника. Три года прошло – все казалось нормально, и вдруг явились: «Срочно, в один день – освобождайте, иначе не то что сохранность не гарантируем, а даже… Будем уточнять, на каких правах вы занимаете нашу площадь!» Наверное, кто-то с кем-то не договорился, то ли из начальства, то ли из потенциальных арендаторов (есть тут одни разбойники, я их так называю: «потенциальными»), – и что делать? – Иван вздохнул. – Скульптуры-то, наверное, труднее пристроить, а картины… Вот я и сообразил в момент – сюда. А уж завтра…
Мария огорчалась, глядя на Ивана и слушая его рассказ. Трудно, наверное, быть художником, которому приходится не столько заниматься творчеством, сколько тем, чтобы сначала – выживать, а уж потом – думать о творчестве. Но она ничего не сказала, а попробовала успокоить Ивана: все утрясется! Он растерянно улыбался, поглядывая на Анатолия, повторяя, что нужно надеяться. Хорошо бы… Поставили чайник, открыли варенье. Иван разрезал торт. Мария смотрела на Анатолия, погрустневшего от рассказа Ивана, от собственных размышлений о завтрашнем дне…
Да, не все и не у всех – так хорошо и просто, как может показаться со стороны! Марии захотелось внести веселую нотку, и она сказала:
– Знаете что? У моего начальника есть любимая поговорка: не стоит заранее сочинять себе неприятности. Поэтому будем радоваться приятному, например – этому торту; недавно на работе мы отмечали один юбилей, покупали такой торт – оказался вкусным!
– Ага, я лю-ю-юблю радоваться, да редко получается, – улыбнулся Анатолий, пододвигаясь на коляске к столу.
Мария тоже улыбалась, а сама напряженно ожидала, как Анатолию удастся справиться с едой, ведь руки плохо слушаются. К ее удивлению, он довольно ловко брал чашку обеими руками, откусывал торт, зачерпывал варенье ложечкой. Все, что падало на пол, Иван потом быстро убрал.
Мария хотела поухаживать за больным, но Иван сказал:
– Не надо! Вы – гостья, а Анатолий – мой друг. – Иван вспомнил о том, что его очень беспокоило. – Знаете... Плохо, что Толина комната – на четвертом этаже. Надо бы меняться на первый, чтобы было легче вывозить его на улицу. Обмен – целая эпопея. Родственники не помогут, уже ясно. А в инвалидный приют, или как он там называется, мы с ребятами Толюнчика не сдадим. Надо держаться до последнего звонка!
До какого-такого «последнего звонка» и что это значит, Мария не переспрашивала.
Нет, здоровые и благополучные люди никогда не поймут тех, кто так вот…
Но, с другой стороны, с кем бы ни случилось подобное несчастье, если не помогут близкие, или, как у Анатолия, хорошие друзья, то что прикажешь делать? Вспомнила о своих, о том, что случалось с ее родными, о которых говорится, что «в каждом дому по кому»… А чужие – у них свои дома, свои горести и заботы… Вот, пришла повидать больного, поговорить с врачом: да что тут врачи, если нужен уход и терпение, а ухаживать и терпеть – никого не обяжешь!
За окном уже стемнело; пора домой…
– Иван, вы меня немного проводите? – спросила Мария, собираясь потихоньку в дорогу.
– Конечно.
– Ну, Анатолий, не унывай. Я буду звонить. Ладно?
Она попрощалась с Анатолием, обняла его легонько, поцеловала в щеку, крепко сжала его руки: словно ледяные! И какой холод от него идет! Запомнила его просительно-тоскливый взгляд…
– Вы тоже мне звоните, спросите телефон у Анатолия, – сказала она Ивану в коридоре, – или сейчас запишете?
– Толик даст, не волнуйся… – Иван посмотрел на нее пристально, изучающим взглядом. – И откуда только ты такая взялась? – очень тихо произнес он. – Толик мне все рассказал. У тебя, что ли своих дел мало?
– А у тебя? – не задержалась с ответом Мария.
– У меня-то… – Иван на секунду прислонился к стене коридора. – О-о-о… Дел у меня много. Да и Толик… Долго он не протянет, а надежда ему нужна. То-то… И если бы мне кто велел выбирать: или картины, или он, то я бы, не сомневаясь… Мы ведь вместе выросли, и я брата его помню, что в Белгороде теперь живет и носа сюда не кажет, помню их родителей тоже; славные были, работящие. Только ты не думай…
– Да я ничего и не думаю, – вздохнула Мария. – Спасибо тебе, Иван.
– Тьфу ты, мне-то за что?
– За все. До свидания!
м
Они уже дошли до конца коридора, потом – до выхода, так и не встретив ни единого больного (куда ж они подевались?); на посту молоденькая медсестра весело болтала с кем-то по телефону. Где же нянечки, санитары? Странная больница... Вот и хорошо: пусть тайну сторожит!
– Ну, прощайте! – Иван открыл дверь на лестничную клетку, пропуская Марию, коротко распрощался и заспешил обратно.
Мария задержалась на пороге и обернулась. Иван вошел в палату к Анатолию, двери за собой не прикрыл – и Мария увидела, как он помогает больному перебраться с кресла на кровать. Мучительная сцена! Ноги у Анатолия не действовали совсем, и сам он казался похожим на большого нескладного кузнечика, которому легко только согнуться пополам, а разогнуться… Нет, все, что угодно, только не это! И нельзя же все подряд примеривать к себе!
Она вышла на тихую улочку, на трамвайную остановку. Села в быстро подошедший трамвай. Пока ехала, думала, думала, думала…
Дома спросили, как Анатолий. Она рассказала почти все, только о картинах не упомянула, чтобы не было лишних расспросов. Валера смотрел на нее с подозрением: видно, есть что утаивать!
Позвонила Анатолию с работы через неделю, спросила о делах.
– Ну-у-у, ничего пока. Хорошими новостями не балуют… Но держусь, держусь…
– А с картинами как? – поинтересовалась она, помешкав.
– Да вот, под шкафом лежат.
– Значит, сумели перевезти? – обрадовалась Мария.
– Да, удалось провернуть… Иванушка уехал на месяц, повез жену подлечить, а заодно... что-то еще, не помню; ну, дела семейные у него не клеятся… Картинки-то пусть полежат: ничего, дело терпит…
– Скажи, а на первый этаж, в самом деле, можно поменяться? – Мария вспомнила о планах Ивана.
– Да-а-а все можно, если подтолкнуть. Ребята помогут. Завтра Федя придет, посудачим… на досуге.
– Ну, держись крепче!
– Ста-а-а-раюсь, сестричка…
Мария положила трубку, долго не могла отделаться от мысли, что Анатолию очень тоскливо и одиноко несмотря на то, что верные друзья у него есть. Но... Жизнь покатилась дальше, собственные дела и заботы поглощали целиком. На работе – куча дел, нововведений. Завод преобразовывали в комбинат, отдел кадров бурлил, как Ниагара. Закрывая глаза перед сном, Мария видела плывущие и извивающиеся, как телеграфные ленточки, разграфленные документы, формуляры отчетности, ведомости. Домом заниматься не хватало сил, и, если бы не мама, дети оказались бы попросту заброшенными… Кирюше-то было на руку, что его меньше контролируют, а Олечка с Анастасией Григорьевной жили дружно – это радовало Марию. У Валерия Игнатьевича на работе было чуть потише, но его начальство обещало, что спокойствие – ненадолго.
Анатолия Скуратова Мария все-таки имела в виду, изредка позванивала, чаще всего получая в ответ короткие гудки – занято – или длинные гудки – некому взять трубку. Удивлялась, а причины не знала. Догадывалась о плохом – отгоняла эти мысли. Было начало июня, скоро отпуск. Хочется, хочется в отпуск... Может, получится отдохнуть по-человечески, давно никуда не ездили вдвоем с Валерой. И то! Едва наступало лето, он уже знал, чего ждать от Марии, у которой планы проведения отпуска далеко не простирались. И тогда Валерию приходилось прибегать к «парламентским выступлениям» – Мария привыкла к его оборотам речи, порядку слов и очередности доводов:
– Как только подходит весна – все, дальше можно не спрашивать: а что вы собираетесь делать летом? Лето означает: одна дача, только дача, и ничего, кроме дачи – все на ней клином сошлось. Никакого разнообразия действий! Путевки мне взять – раз плюнуть, вся страна – как на ладони. А ты у меня, моя дорогая, совершенно разучилась отдыхать! Ребята, допустим, в лагерь ездят, а мы с тобой… – тут Валера предложил нечто новенькое: – Все, не возражай: на август заказал две путевки в санаторий, в Ессентуки. Мне рекомендовано, а тебе – не вредно. Анастасия Григорьевна – не против. Кирюшку и Олечку возьмем с собой в другой раз. Задача решена, возражения не принимаются.
– Валера, ты просто молодец, – расчувствовалась Мария, приготовившаяся поначалу пылко протестовать, да вовремя одумалась. – Знала я, за кого замуж выходить! Вспомни, как сначала сомневалась...
– Чего вспомнила, голубушка… – улыбнулся Валера и тут же загордился: – Но ведь знал и я, как жену выбирать!
На другой день Мария Афанасьевна написала заявление на отпуск. Начальник завизировал сразу же, а Генеральный оставил «на усмотрение». Это он – так, для порядка: отпустит, никуда не денется. Девчонки видели, как он положил бумагу в синюю папку, то есть решит положительно. Уже к концу рабочего дня, когда Мария собралась уходить, ее подозвали к городскому телефону.
– Мария, не удивляйтесь и вспомните меня. Это – Иван Рябичев, Толин приятель. Вы можете сейчас поговорить со мной – никому не помешаю?
– А, здравствуйте, Иван! Давайте, поговорим, не волнуйтесь, время есть, – обрадовалась Мария, но сердце подсказало: зря радуешься, что-то там случилось!
– Меня долго не было; я недавно приехал, раскидал некоторые дела, только не все. Скоро уезжаю опять: так надо. Вы же помните, как я хотел для Толика кое-что протолкнуть, да не выходит пока… – Иван замялся. – Обменять комнату – быстро не выйдет; Федор так и предупреждал – он и сам пробовал, но неудачно.... А соседи Толика съехали, теперь там поселился мерзкий тип, пропойца и… тунеядец. Мария, вы меня слышите? – Иван замолчал – видимо, передал самое главное. – Как самочувствие?
– Слышу… Самочувствие – спасибо, нормально, – автоматически произнесла она, задумавшись над тем, что сообщил Иван.
– Тогда… Не хочу нудить долго, но если можете, поищите вот что. Узнайте, пожалуйста, для Анатолия: существует ли такая услуга, когда приносят горячие обеды на дом? Именно в Толином районе? Телефоны я все раздобыл, да заниматься этим времени нет. Федя тоже постарается, но и вы… Если бы вам это удалось!
– Хорошо. Буду дозваниваться, – сказала Мария. – Диктуйте, куда звонить. – Записав подробно, спросила: – А что с картинами?
– Ой, все там же, – отвечал Иван с печалью в голосе. – Мне какая-то черная кошка дорогу перебежала, других объяснений не нахожу. Как нарочно, мы не можем договориться с новыми арендаторами, управы на них нет: требуют непомерную мзду! Картинки мои Толику, кажется, не мешают, к тому же и пристроить их сейчас некуда. Работать над ними не могу, уезжаю не в творческую командировку, как хотелось бы, а... совершенно по другим делам. Собирался-то я... Досадно: все могло сложиться совершенно иначе!
– Иначе? Вообще или только теперь? – спросила Мария, не подозревая, насколько она задела Ивана за больное место.
– Вы… Вы просто так спрашиваете? – Иван осекся, и Мария вдруг почувствовала, что он принял ее слова чересчур серьезно – но почему?
– Извините, если не то сказала, я ведь не знаю вас… – произнесла она и уже начала раскаиваться, что задала ненужный вопрос.
Иван, у которого на душе и в самом деле «кошки скребли», не знал, стоит ли говорить о себе откровенно, но все-таки начал:
– Понимаете, Мария, раз на то пошло… – он помолчал, и Мария стала напряженно ждать, что он скажет дальше. – Понимаете… Вы – такой человек, что не побьете меня за откровенность! …Вот Толик – он женился по любви, и первое время был счастлив – я точно знаю, хотя тогда мы с ним… не особенно часто встречались, даже наоборот. А я… Дурацкая моя натура! Очень, очень любил одну девушку, понимаете? Так любил, что близко к ней подойти стеснялся, а прикоснуться или пальцем тронуть – и мечтать боялся. В то время я только начинал учиться живописи, брал уроки у одного художника, и что? Все его уроки забросил, а рисовал только ее! Сотни листов бумаги перевел – рвал и выбрасывал, бездарь несчастная... Поворот головы, взгляд, выражение глаз... Она, только она!!! Да и позже…
– Значит, на картине, на вашей любимой картине с яблоком – она?
– Вот как вы догадались… – Иван замедлил свою речь, вздохнул судорожно. – Да, это – она. И до сих пор для меня… никого не существует, кроме нее. Женился на другой, конечно…
– Почему же так? – удивилась Мария. – Она вам отказала, наверное?
– Да я и предложения не делал – чувствовал, что недостоин, не потяну… Не посмел! Представляете: она бы мне стирала, гладила, суп варила, детей рожала, а я… У меня творчество – закон для всего остального, и предложить любимой женщине второстепенную роль – слишком жестоко и… нечестно. Понимаете?
– Нет, не понимаю, – отвечала Мария, забывшая о своих делах и взволнованная судьбой Ивана. – Каждый живой человек стремится к счастью, к счастливой любви, к пониманию близкими людьми. Разве творчество, как вы сказали, может заменить все это? И может ли творчество быть выше любви? Наверное, я плохо разбираюсь в искусстве, но чтобы любовь оказалась во вторую очередь – разве так – честно?
– Не думал, что мы будем толковать об этом, да еще по служебному телефону, – отвечал Иван с расстановкой, – но раз так… Моя жена – обычная, каких много, ни на какие идеалы не претендует. Ну, год за годом – и все ничего; семья, дети... Потом то одно, то другое… Неохота рассказывать, сколько у меня скопилось семейных проблем – как говорят, врагу не пожелаешь! Единственное, что осталось светлым, это моя мечта; она – далеко-далеко за горизонтом, только где – не знаю… Пусть так и будет. Вот так – честно.
– Понимаю, вы все заранее рассчитали: перекладывая на «обычную» женщину свои бытовые проблемы, надеялись, так будет легче жить, не тратить силы и внимание на то, что можно удерживать «за горизонтом», лишь мысленно обращаться к мечте. Так легче творить «бессмертные полотна», свободнее выражать себя в искусстве! – высказалась Мария.
– Ого, как вы меня разоблачили! Да, наверное, так оно и есть – отчасти… Вот и расплачиваюсь теперь – за все, вы правы... – Ивану стало очень грустно. – А что, Толик обо мне не рассказывал?
– Нет, да я и не расспрашивала… – Марии и в голову не приходило интересоваться у Толика делами и «секретами» его друзей. – И вас вызвала на откровения нечаянно; простите, если обидела чем-то.
– Это вы меня простите и забудьте, что сказал. Честно, нечестно – каждый для себя определяет сам… Простите за несдержанность. – Ивану было неловко, но остановиться не мог. – Ведь почему вам звоню: увидел, что вы – чистая и искренняя, добрая, и еще… С вами не страшно быть откровенным, да не все стоит долгого рассуждения. А сколько постыдных поступков было – вспоминать страшно! Небось, так и в жизни каждого, тем более – в моей-то жизни…
– Да и в моей – тоже, – отозвалась Мария, вспоминая, о чем затруднилась бы рассказать малознакомому человеку. – Ну, моя жизнь – не то, что ваша… А как у вас остальные дела?
– Остальные? И остальные – не лучшим образом… Столько возможностей уже упустил – не передать. Вот и теперь – упускаю точно. Обидно, приглашают в Чехию на реставрационные работы в галерею одного старинного замка в Татрах – не могу поехать, а там заработки хорошие. И замок роскошный! Поработать бы полгода – на все творческие планы хватило бы, и житейские проблемы решил бы. Но не складывается... Контракт с чехами нужно подписывать срочно, через неделю уже поздно будет, найдутся другие люди – да уже, видно, и нашлись!
Мария подумала, что Ивану принципиально не везет. Вспомнила, о чем думала с начала их разговора:
– А все-таки, как же… та картина? Что с ней будет? То яблоко, яблоко, которое – символ жизни, та женщина, которая – символ любви или мечты, тот мужчина, который принимает – или не принимает – этот дар? Ведь это очень важно для вас! Я правильно понимаю?
– Картина! Вы помните о картине! Мария, все это… Важно, настолько важно, что... Жаль, не могу больше по телефону… – Ей показалось, что Иван вот-вот заплачет от обиды или уже плачет… – Я совершенно выдохся… Не напоминайте, прошу... Главное – не завершил, вот что… Ну, не буду… Надеюсь на вас. Приеду – позвоню. Счастливо!
…Все два месяца, что оставались перед отпуском, Мария обзванивала названные Иваном столовые, кафе и закусочные. Где-то сразу отказывали, где-то соглашались доставлять горячую пищу на дом, но задорого, где-то все устраивало, но, как оказывалось, только на словах. Говорила с Анатолием: тот жаловался: мол, принесли обеды раза три – ничего еще, съедобно. Согласился, оплатил вперед на месяц: деньги взяли, а обедов нет – и так уже несколько раз. Мария звонила заведующим этими учреждениями, добивалась правды, и что? Да ничего – с них взятки гладки. Ну и люди… Откуда они берутся? Или так принято юлить в сфере обслуживания? Попробовали бы таким макаром работать на заводе!
Но что толку, пользы для Анатолия – не было.
Звонила она и в собес, а там, прежде всего, строго спросили:
– А кто вы такая? Какое ваше дело? Кем вы приходитесь Анатолию Скуратову? У вас есть основания задавать нам такие вопросы?
Нет, тут было не договориться. И ведь тоже – люди. Что за люди? Безразличные чиновники! А где-нибудь есть другие? Несколько раз «нарывалась» по телефону на соседа Анатолия… Ее настроение все падало, а мысли становились мрачными. Да, бедный Анатолий, что ему делать? Так и уехала в Ессентуки с тяжестью в душе. Валерию почти ничего не рассказывала, но он обо всем догадывался сам. Мария утешалась тем, что у Анатолия есть друзья: близко – Федя, подальше – Иван…
***
В санатории отдохнули очень хорошо. Гуляли, ходили к источнику, пили воду, соблюдали режим, даже иногда спали после обеда. Ну, совсем разленились! Валера просто изменялся на глазах, распрямился, даже растолстел немножко – от безделья. Снова научился «юморить» и говорить высокопарные комплименты жене – прямо как в классических постановках! Мария похорошела, успокоилась. Правда, иногда вспоминала о печальном, да и видела невеселое – сколько тяжело больных приехали сюда, особенно по соседству, в Пятигорск. Говорят, что здешние (а особенно пятигорские) воды лечат неизлечимые болезни. Еще в прошлом, девятнадцатом веке, больных привозили на колясках к источникам, а уезжали они на своих ногах. Вот бы Анатолия сюда! Ой, опять о том же…
Мария с Валерием вернулись довольные, навезли подарков: детям – теплые вязаные вещи, Анастасии Григорьевне – тонкую пуховую шаль, близким знакомым – сувениры. Всем все понравилось, особенно фарфоровые безделушки, разнообразие которых удивляло Марию. Девочкам на работу принесла два килограмма пряденой шерсти, купленной недорого в Кисловодске у карачаевцев, как и просили. – «Это ли надо?» – «Да, отлично, спасибо. Хотите, научим вязать, Мария Афанасьевна?» – «Когда там вязать, других дел полно, некогда пуговицу пришить!»
Анатолию дозвонилась через несколько дней.
– Ма-а-ария, голубушка… – прошептал он. – Плохо мне совсем, и с кормежкой, и со всем остальным. Лежу лежмя, почти не вылезаю из… берлоги. Сестричка, не обижайся, давно тебя не слышал...
У Марии упало сердце. Бедный, бедный человек, так мучается… И все – один и один. Анатолий не отрицал, что теперь – почти один...
– Может, я приду к тебе, посмотрим, что и как?
– Не-е-ет, только не это… – воспротивился Анатолий. – И не собирайся даже! Но давай подумаем вместе, покумекаем... Что у меня получается? Плохо у меня получается.
– И выхода нет?
– Есть, наверное, и вот какой. Брат Олег звонил из Белгорода, советует… – Мария понимала, что Анатолию совершенно не у кого просить помощи, и обрадовалась, что объявился этот самый брат. – Есть у него одна знакомая, Валентиной зовут, муж то ли помер, то ли бросил... Старше меня лет на десять, с дочкой. Дочка желает учиться в столице или вообще в большом городе… Они предлагают мне, чтобы я женился, то есть оформил брак с этой Валентиной: ну, приедут, пропишутся у меня, будут за мной ухаживать, обещают, по крайней мере. Олег уверял, гарантировал… Что скажешь, добрая душа?
– Анатолий… – Мария была обескуражена. – А твои друзья?
– Друзья… – Анатолий всхлипнул. – Замучил я Федора, замотал совсем. А Иван как уехал тогда еще, так и пропал… Где и что с ним – не известно… Вот так и живу. Сосед гудит день и ночь – не просыхает от пьянки. Какая-то братва к нему шастает постоянно. Олег все торопит.
– Ох, не знаю, что сказать, – только и сумела вымолвить она. – Может, и правда, лучше будет, если… если оформить брак и… прописку?
– Да я и сам догадываюсь, что стоит согласиться.
Мария положила трубку, ощутив всю безысходность его положения.
…Дело шло к зиме и к холодам. После Нового года Валерию Игнатьевичу пообещали повышение в должности, что Марию не особенно радовало: добавят сто рублей зарплаты, а спросят на тысячу. Да и что делать-то при теперешней неустойчивой экономике? Но – хоть так-то... На лучшее рассчитывать не приходилось. Больших семейных расходов не планировали, но кое-что купить надо, не откладывая. Кирилл вымахал за последний год, все брюки разом – словно укоротились. Надо срочно обновить одежду и ему, и Валерию, да и Олечке... О себе-то Мария всегда вспоминала в последнюю очередь, на броские наряды и украшения смотрела равнодушно: так ли часто бывают парады и праздники? Оля к тому времени научилась в школе простенькому рукоделию и с гордостью заявила, что скоро сама себе будет шить платья – экономия для семьи. Анастасия Григорьевна пошутила, сказала, что ей тоже хочется нарядов, сшитых по новой моде. Олечка пообещала ей – первой!
– А брюки Кириллу?
– Ой, пока не знаю, как их шьют! И выкройки нет... Но научусь еще.
Умора, прямо… Экономисты неугомонные!
Анатолию становилось боязно звонить. Как он там? Наконец, решилась. Дозвониться долго не удавалось: частые гудки, частые гудки… А то – никого… Потом трубка вдруг ответила низким женским голосом:
– Слушаю вас.
– Можно попросить Анатолия?
– Вы из поликлиники?
– Нет, я его знакомая, Мария.
– А-а-а… А я – его супруга, Валентина Семеновна. Что передать?
– А его… нет дома?
– Почему? Есть, но теперь отдыхает, тревожить не будем.
– Тогда… Скажите, пожалуйста, как… у вас дела.
– У нас? – Валентина весело засмеялась. – Все отлично. Я устроилась на хорошую работу, поваром, в ресторан «Вечерние огни», знаете такой? Оксана, моя дочь, пока не работает, но собирается. Анатолий у нас под присмотром. Что еще спросите?
– Можно вам звонить?
– Как хотите.
– Передайте Анатолию от меня привет…
Трубку быстро положили, почти бросили. Мария задумалась. Все, теперь правды не узнаешь ни за что. И надо ли узнавать? Может, Анатолий сам когда-нибудь позвонит, или Иван наконец объявится.
Жаль, что нет телефона Федора, не записала вовремя…
Новый год принес Марии Афанасьевне неприятности на работе. Обнаружились большие нарушения в финансовой отчетности предприятия, вскрылись не слишком честные дела начальства – когда такое было? Правда, кадровики оказались полностью непричастными, но пока это установили, нервы помотали изрядно. У Марии в голове не укладывалось: мыслимо ли это, ведь столько лет люди работали вместе, все друг друга знали, вроде бы доверяли друг дружке? Да и сама-то разные бумаги подписывала и особенно не вчитывалась в то, что писали другие, не сомневаясь при этом. Теперь поняла: зря не вчитывалась в каждую букву, не выверяла каждое слово! Будет впредь наука…
Валерий сказал, что ему еще с позапрошлого года не нравились подозрительные новшества, которые необдуманно внедрялись молодыми да ранними руководителями у них на производстве. Вот и получилась ерундистика! Может, Марии следует искать другое место – да жаль, уже пятнадцать лет «протрубила» в одном коллективе! Нужно подумать.
Мысли об Анатолии как-то обмякли, осели на втором или третьем плане. Но тут Олечка сказала, что недавно днем кто-то звонил, говорил невнятно, просил подозвать Марию. Может быть, это был Анатолий? Как он там? Она стала звонить сама – нет ответа. Повторяла звонки еще несколько дней подряд – то же самое. И снова – дела поглотили…
Дозвонилась с работы, чуть ли не в марте, в конце рабочего дня. Ответил грубый мужской голос:
– Подождите! – и – в сторону: – Валька, тебя!
Женский голос продолжил с хрипотцой:
– Слушаю, чего хотите? Анатолия? Нет его. Кто спрашивает? Мария? А, явилась, не запылилась… Объясняю: Анатолий умер, и уже месяц назад. Поняла? Так что можешь больше не хлопотать, не звонить.
– Как… – Мария обмякла, голова у нее закружилась. – И мне никто не сказал… Валентина… Валентина Семеновна, пожалуйста, не кладите трубку! – Мария отогнала слезы как можно дальше. – Он умер дома?
– А не все ли тебе равно, душечка? Ну, в больнице, считай, что в больнице. Легче стало? – Валентина ехидно захихикала. – Похоронили как полагается, не оставили в морге, не бросили на улице. Чего еще?
– А… сын! У него сын есть, – вспомнила Мария. – Он знает?
– Чего допытываешь: знает, не знает… – зашипела Валентина. – И не было у него никакого сына; был бы – знал бы, как с отцом поступить. Ясно? И закроем тему, и забудем мой телефончик.
Забудем, забудем, забудем… В голове у Марии заработал какой-то стучащий механизм, притупляющий чувства, перемешивающий мысли…
– Пожалуйста, Валентина Семеновна, это последний мой вопрос, – взмолилась она. – Кажется, у Анатолия… оставались какие-то картины или рисунки, не его собственные, а одного художника, его друга…
– И про это знаешь? Прокурорша... – Валентина откашлялась прямо в трубку, оглушив Марию. – Тогда и тут успокойся. Были картинки какие-то, мозолили нам глаза, да все сплыли. Наводили мы порядочек, расчищали, как говорится, территорию – и картиночки первым дело решили оприходовать. Сунулись туда-сюда – нам и гроша ломаного не предложили. Надоела нам с Васенькой вся эта белиберда, вытащили дружно весь мусор во двор, отволокли к заборчику и спалили.
– Как спалили? – Мария едва соображала, что происходит.
– Обыкновенно.
Мария задохнулась:
– Но ведь там… Там были очень ценные работы, понимаете?
Валентина засмеялась и закашляла с хрипом одновременно, что выдавало в ней хроническую курильщицу. Потом произнесла с издевкой:
– Ты меня еще и рассмешила, как в том анекдоте, хлопотунья ты наша неугомонная! Да рубля за все это оптом никто не дал!
– А… – в голове стучало все так же, и Мария не могла сообразить до конца, чтобы решиться спросить о главном, главном – после смерти Анатолия и исчезновения Ивана. Но пересилила этот стук и спросила: – А картина там была одна, такая… в раме…
– А, фантазия на предмет определенной озабоченности! – Валентина была готова сорваться на неприличный жаргон, но сдерживалась. – Ну, этот «шедевр» мы с Васей не поленилась к себе в ресторан притащить. Думали: администрация разберется, может, повесят на стеночку, хотя бы и в раздевалке. Разобрались, еще и как! Послали меня куда подальше, сказали, что публика у нас приличная, на такое непотребство ей смотреть – заранее аппетит портить! Даром, что и яблоко нарисовано… Не стали мы картиночку обратно домой волочь – рядом, за урну поставили. В мою же смену мусорная машина и увезла. Вот тебе – полный отчет. Довольна? Или еще чего спросишь, гражданин следователь?
Снова в разговор вмешался грубый мужской голос, видимо, с параллельного аппарата. Шум, треск, выкрики... Валентина, повышая тон, стала пререкаться с ним, хрипло выкрикивая ругательства. Мария не стала дожидаться окончания перебранки… Она положила трубку, сжала виски руками, пытаясь унять стук – все, так потише, полегче...
Хорошо, что в комнате никого не было, кроме нее.
Посмотрела на часы: без четверти шесть. Как все это…
Только в шесть часов она оторвалась от стула, едва ощущая себя: надо куда-то двигаться, что-то делать... Подошла к зеркалу.
Что, вот так просто – жить, смотреть на свое отражение в зеркале жизни – и однажды не увидеть себя в нем?
Она машинально поправила волосы, сняла с вешалки пальто, оделась, заперла за собою дверь, пересекла территорию завода, миновала проходную и медленно поплелась по знакомой улице, совершенно не соображая, что из продуктов собиралась купить по дороге домой…
***
Мария пришла домой, насилу разделась и тут же легла, отговорившись головной болью: переваривала горькие известия молча, однако так до конца и не поверила. Тоска душила. Утешала себя: ведь это – совсем чужой человек… Вспоминала, как отец, Афанасий Леонидович, говорил ей, когда она была еще маленькой девочкой, что у человека очень большая нагрузка – по жизни и в то же время – короткий жизненный цикл. Можно и не успеть…
Как же не вяжется одно с другим – но так устроен мир!
Сам Афанасий Леонидович умер так рано, так неожиданно, что родные долго не верили в это: был человек – и уже нет…
«Толочь» все внутри себя было невыносимо, и поздно вечером Мария наконец разрыдалась у Валерика на плече, не смогла не рассказать о картинах, об Иване, о Валентине. Рассказывала долго… Валера дал ей выговориться, а потом успокаивал, говорил, что этого и следовало ждать. Жалко бедного парня, конечно, да что теперь-то?
На другой день, после работы, когда все собрались дома, кроме Кирилла, задержавшегося на вечерней тренировке по теннису, сели ужинать. Поужинали, потом стали пить чай; Валера спросил:
– Машенька, вспомни то яблоко, ну, того художника, Ивана, на «Картине жизни», или как ты ее назвала – какое оно было? Вспомнила?
– Конечно: немного вытянутое, крупное, розово-красное, с вишневым отливом, – ответила Мария. – А что?
– Хочу, чтобы мы помянули Анатолия все вместе.
– А яблоко – при чем?
– Объясню, – сказал он
Валерий позвал за собой Марию, Анастасию Григорьевну и Олечку. В прихожей вынул из кармана куртки что-то завернутое в хрустящую фольгу. Развернул. Яблоко! Большое, очень красивое, ярко-вишневое яблоко: его скорее можно принять за муляж, чем посчитать настоящим.
– Неужели настоящее? – ахнула Олечка. – И где ж такое выросло? Я и похожих раньше никогда не видела. Папа, откуда?
– Не имеет значения, где взял, там уже нет, – ответил Валерий. – Маша, ну, как – похоже на то яблоко?
– Очень, очень… – согласилась Мария. – Удивительно! Как ты угадал? И… что дальше?
Валерий пошел на кухню, вымыл яблоко, вытер досуха полотенцем. Положил яблоко на тарелку, взял нож и разрезал его на шесть частей, аккуратно вынул сердцевину.
– Вот, девочки, берите – так и помянем Анатолия. Водочку пить не будем, не та у нас компания, а яблоко скушаем. Кирюшка свою долю потом съест. Ну, что же, Анатолий… Пусть земля ему будет пухом…
– Пап, тут одна долька лишняя – эта кому? – удивилась Оля.
– Ну, хоть тебе, – улыбнулся Валерий. – На пять частей резать несподручно. Поняла?
– Значит, папочка, резал ты без особого смысла?
– Резал – да, а вот в самом яблоке – смысл есть. Да в него и без меня уже столько всего вложили! – Валера видел, как Мария сдерживает слезы. – Просто я его искал, а тут оно и само попалось мне на глаза. Ясно?
…Яблоко оказалось очень вкусным, сочным, чуть-чуть терпким.
– Почти как сортовая антоновка, если хорошо дойдет, – сказала Анастасия Григорьевна и вздохнула сдержанно, вспомнив что-то. – Погодите-ка немного, я сейчас… – Помешкав, принесла из своей комнаты толстую тетрадь. – Раз такой случай, то вот… посмотрите. Посмотри, Машенька, что привезли из последней Тянь-Шаньской экспедиции сотрудники твоего отца. Валера, взгляните и вы с Олечкой. Это дневник, который Афанасий всегда возил с собой, неугомонный он был… Исследователь жизни! Все описывал, анализировал… Вот, видите, последняя запись, 12 марта 1976 года, сделана за неделю до смерти.
Мария стала читать вслух, легко разбирая почерк отца...
«Перед нами неожиданно выросла высокая и плоская каменная скала; на ней высечены какие-то знаки и фигуры – в строгом порядке, столбиками. Это – не иероглифы, такого письма я еще не встречал.
– Что это такое? – удивился я.
Наш бессменный и услужливый проводник Ун Чен расплылся в улыбке, закивал головой:
– Знаю, знаю; кого сюда ни приводил, все удивляются. Вернемся, покажу, как я перевел эти древние стихи на китайский, на русский не пробовал.
В отряде Ун Чен показал мне свои стихотворные переводы пятилетней давности: очень интересно! Я ночь не спал, сделал несколько вариантов перевода на русский и латынь. С латинским еще буду разбираться, да и с русским – тоже…
ВИДИШЬ, ЯБЛОКО ЖИЗНИ…
Видишь: яблоко жизни, яблоко жизни,
Яблоко жизни
досталось тебе,
досталось тебе.
Яблоко ешь, не спеша, съешь до конца,
Зернышки в горсть собери,
в землю – верни.
Свежей водой поливай,
ветру сломать не давай,
Дерево жизни расти,
дерево жизни взрасти.
Может, дождешься цветов,
нежных цветов,
Может, дождешься плодов,
спелых плодов.
Не прикасайся к плодам,
сочным плодам.
Пусть их другие вкусят,
молодые вкусят.
***
Видишь: яблоко жизни,
яблоко жизни,
Яблоко жизни
досталось другим,
осталось другим…»
 Люди часто смотрят на небо и в детстве, и в юности, и в зрелом возрасте. Днем они видят на небе солнце и облака, ночью при хорошей погоде - звезды и луну. Радуга бывает только днем, потому что она образуется из солнечных лучей и дождевых капель, а ночному дождику не хватает отраженного света луны и силы свечения звезд для преломления этого света в радужный спектр. Разноцветная радуга - знамение солнечного дня, торжество законов природы, благоволение Создателя детям Своим. В природе все едино и гармонично, а человек - неотъемлемая часть природы Земли, так как же ему не радоваться радуге?!
Люди часто смотрят на небо и в детстве, и в юности, и в зрелом возрасте. Днем они видят на небе солнце и облака, ночью при хорошей погоде - звезды и луну. Радуга бывает только днем, потому что она образуется из солнечных лучей и дождевых капель, а ночному дождику не хватает отраженного света луны и силы свечения звезд для преломления этого света в радужный спектр. Разноцветная радуга - знамение солнечного дня, торжество законов природы, благоволение Создателя детям Своим. В природе все едино и гармонично, а человек - неотъемлемая часть природы Земли, так как же ему не радоваться радуге?!
Нужно радоваться - как дети.
Нужно верить - как дети.
Нужно жить - как дети.
Дети любят воду, цветы, теплый дождик.
Дети любят природу.
Дети любят радугу, потому что
РАДУГА – ЭТО ПРАЗДНИК ДУШИ!
 Воспоминания детства −
цепкие репейнички в мантии моей памяти −
не покидают меня никогда...
Воспоминания детства −
цепкие репейнички в мантии моей памяти −
не покидают меня никогда...
Самая запомнившаяся картина моего детства - звездное небо. Мне, наверное, года четыре (это примерно годы 1952-1953), и еду я с горочки на санках. С горочки - сильно сказано, съезжаю вниз по дорожке между двумя домами, как раз на улицу, уклон очень небольшой. Это значит, что еду медленно, есть время все продумать рассмотреть, повторить - и не раз, запомнить, а потом вспоминать...
Зима и вечер.
Небо довольно ясное, присыпано звездами. Санки старые, устойчивые и добротные, удобные. На них можно лежать на спине, лежать и смотреть вверх. Это я сама догадалась, что, лежа и в движении интереснее смотреть на небо, такое далекое, но обворожительное и живое. Маршрут моего спуска заканчивался как раз на проезжей части улицы, но это было не страшно, так как машины там почти не появлялись, и опасности не было никакой. Через проезжую часть улицы, чуть правее, красовалась единственная в округе колонка городского водопровода. До сих пор она сохранилась почти в том же виде. Правда, теперь ею почти не пользуются, а тогда не существовало другого источника питьевой воды, и тропа к нему не зарастала никогда. Может, в мои детские времена дети и гуляли допоздна потому, что с самого раннего утра и до позднего вечера взрослые часто выходили из дома во двор − то вынести на помойку ведерко с мусором (ведь удобств в наших домах тогда не было никаких), то в сарайчик за дровами, то к колонке за водой. Они занимались делами, а дети − под контролем.
Потому они и гуляли до «не хочу».
Да кто не хочет гулять? Гулять любила и я.
Сидя дома, познаешь мир таким, каким хотят преподнести его тебе родители. Мои-то родители при их занятости постоянно старались воспитывать меня, а потом еще и брата, который был моложе меня на шесть лет, требовательно, не упуская время и любую возможность. Первая возможность − они сами, подающие пример, как и что нужно делать или не делать. Вторая, не менее важная − книги. Слава Богу, тогда не было телевизоров. Кинотеатры стали значительным средством воздействия на мое сознание, но уже в школьные годы. А вот улица, двор, поленницы дров, сараи и сарайчики, заборчики, окруженные лопухами и клумбами летом и слоистыми сугробами зимой, та самая колонка с ручьями и лужицами вокруг нее − представлялись мне миром перемен декораций времен года и явлений природы, миром, в котором я когда-нибудь вырасту. Дома почти всегда было одно и то же, а за его порогом была меняющаяся, неожиданная, открытая жизнь.
Вечером гулять мне было гораздо интереснее, чем днем. С ребятами нашего двора я, конечно, дружила, но не очень. Были у меня две подружки, одна из нашего дома, а другая – дочка наших знакомых. С ними было поначалу интересно и весело, только с годами серьезной дружбы не получилось. А дворовая компания существовала по своим камерным законам.
С самых малых своих лет я узнала, что, оказывается, у меня «богатые» родители: мама − врач, а папа − военный, даже не столь богатенькие, сколь «интеллигенты». Народ послевоенного образца такие семьи не очень-то любил. Сколько же всего я наслушалась на улице о своих родителях, а потом и о себе! Уже тогда я догадывалась, а гораздо позднее точно поняла, что разница между всеми нами очень мала, что живем все мы не очень-то хорошо, ну, пусть кое-кто чуть получше, а в массе − примерно одинаково бедно. Не помню точно, чем особенно вкусненьким мы угощались в праздники − против широкого ассортимента теперешних сладостей, но помню, что вкуснее маминых пирогов ничего не было. Также хорошо помню, что игрушек было мало, и были они далеко не у всех, у многих − самодельные, сделанные руками взрослых, а не купленные в магазине. Потом, несколько позже, как я отметила по игрушкам, доставшимся младшему брату, были уже другие, более интересные варианты кукол, зверюшек, автобусов, самолетиков; вообще появились красивые и милые игрушки.
Одеты же были все мы тоже примерно одинаково, в одежду каких-то усредненных фасонов. Велосипедов у ребят было мало, лыж и коньков − побольше, а вот санок хватало! У многих ребятишек были мячи, скакалки, а другие - сами мастерили "городки", воздушных змеев, самолетики, ветряные пропеллеры и подобные игрушки, но нечасто. Летом играли мы в популярные тогда игры: в казаки-разбойники, в классики прыгали, с мячом − в "штандор", в "вышибалы". Часто играли в "колечко", в прятки, в дочки-матери. И что удивительно… Вроде бы, в игре у всех должны были быть равные условия, независимо от того, в какие игрушки кто играет дома, но все оказывалось не совсем так. Эти общие игры не были для меня столь интересными, порой были даже опасными, потому что частенько играли со мной не по общим правилам, а по каким-то персональным, нечестным, что ли. Я так уставала от постоянного ожидания "подвохов" и мелких гадостей, что приучилась не бежать в общую компанию по первому зову сердца. Но ведь ребенок должен иметь круг общения! Выходя из дома, я должна была заранее быть подтянутой и готовой встретить этот круг, скорее − окружность, вот-вот! − окружение.
Примерно то же повторилось и в детском саду, и в школе.
Жаль…
А вдруг все могло бы происходить по-другому?
Этот вопрос мучил меня тогда, мучает и до сих пор.
Знаю, что почти во всем виновата я сама − лично, даже и в те мои детские годы. Вот он, именительный падеж, как именинный пирог − персонально мне. Могла бы я где-то потерпеть, поддакнуть, промолчать, наконец. Могла бы. Но ведь не молчала. Я протестовала, и протестовала часто. Протестовать было невыгодно, потому что потом почти всегда я оставалась в одиночестве… Исключения случались редко. Наверное, поэтому я любила бывать одна, гулять одна. Одиночество меня не пугало, а выручало: никого не нужно было подпускать к себе близко, никому не нужно было раскрываться и доверяться. Можно было помечтать… Конечно, при этом я теряла очень многое. Трудно выразить самое себя без общения с равными и близкими по духу созданиями. Но я нашла для себя − собственное понимание происходящего, книги, наш двор, наш мир, людей вообще, которых я всегда любила вообще, что значительно легче, чем любить каждого в частности. В частности, я любила папу с мамой, бабушку − мамину маму, потом братишку, и еще, и еще…
Но не всех, кого хотела бы.
…Читать я научилась довольно поздно, а вот запоминала на слух с ходу. Всем гостям и случайным знакомым моих родителей выразительно и с удовольствием декламировала "Мойдодыра", "Дядю Степу", "Кошкин дом", а позже − "У Лукоморья дуб зеленый", какие-то свои корявые детские стихи. Своих стихов я всегда стеснялась. Читали мне дома, а на прогулках я вспоминала прочитанное, представляла живописно и в лицах. Иногда видела себя в разных ролях и на сцене. Это украшало мою жизнь. Детская фантазия помогала посмотреть на себя несколько со стороны, подмечая какие-то промахи и несоответствия в себе с окружающей обстановкой. Иногда же неожиданно случались потрясающие открытия. Такой слегка игровой подход меня впоследствии часто выручал, особенно в самые трудные моменты моей жизни.
Тогда же…
Летом - вольная воля − много во что можно было играть, много чего можно было делать, не примыкая к нашей дворовой команде: и на речку, и в лес, и еще куда-нибудь. Везде, конечно, с родителями или еще с кем. А зимой далеко от домашнего тепла не оторваться, разве что на саночках покататься да снежную бабу слепить рядом с подъездом. А зимы-то бывали очень холодными! Случалось, строили мы с папой и с ребячьей компанией снежные крепости во дворе, иногда даже с башнями, и водой поливали для прочности; случалось, играли в войну снежками; случалось, узоры на снегу рисовали − конкурс под открытым небом устраивали.
Только лучше санок зимой для меня все равно ничего не было.
Эх! Беру мои хорошенькие саночки, выхожу во двор, вдохну морозный воздух и долго не выдыхаю − красота! Снег чистый, искристый, рассыпчатый, и валенки в нем не вязнут, и полозья санок скользят легко. Возьму да и прокачусь с любимой маленькой горочки раз двадцать − как в кино, да еще с повторами! И чего только не сочиню из своего катания: вот мчусь в заледеневшей карете, как Снежная Королева, вот управляю упряжкой собак, вот упала, вывалилась на ходу из саней в промерзшей степи, спасать меня некому − враз закоченею! А вот въезжаю в прекрасное царство, прямо к принцу! Нет, принц и его царство тогда про меня, похоже, еще не знали.
Правда, примерно тогда же я подружилась в нашем водницком детском саду с одним славным мальчиком, Костей Мантейфелем, он защищал и выручал меня постоянно, в обиду не давал − ни девчонкам, ни мальчишкам. Потому-то, когда родился мой брат, и его хотели как-то по-другому назвать, я не согласилась. Сказала родителям, что они его могут называть как угодно, а я буду − только Костей. А что − совсем неплохое имя, добавляет твердости характеру! Папа с мамой согласились. Не помню точно, но, кажется, Костя Мантейфель жил далеко от нашего двора, так что мы встречались только в детском саду, и на санках вместе нам покататься не удавалось. Жаль… Потому-то мне и приходилось придумывать себе принцев − для романтики, а Костя про мои сочинительные фантазии даже и не догадывался. Он был защитник в садике − и только, да и то хорошо.
Съехав вниз, встаю, беру саночки за веревочку, поднимаюсь вверх.
По пути сочиняю новую историю.
Интереса к таким катаниям «в лицах» мне хватало надолго…
Другие-то ребятишки редко катались с такой хилой, невысокой горушки, ведь через три дома от нашего двора был вал, вернее, остатки от крепостного многовекового вала вокруг города. А город этот − Новгород Великий! И кататься там было - круче и гораздо интереснее. Поэтому все, кто посмелее и посвободнее от родительских назиданий, а уж наша-то водницкая шпана (это район наш − Водники, жители его работали на водном транспорте) − вольный народ − вся тусовалась там. Съезжали с выкрутасами, подсечками, переворачивались на трамплинах и кочках, подзадоривали друг дружку, обваливались в снегу. Туда без папы я никогда и не решилась бы пойти, да меня дальше нашего двора и не отпускали. Меня даже дразнили, что я "папенькина" дочка, да я почти не возражала.
Ну, уж чьей бы там дочкой меня ни называли, а на спор я даже лизнула стальную ручку, что на двери нашего подъезда − еле оторвали! Был сильный мороз… А ребята смотрели − как, сумею ли? Оказалась, еще и как сумела − дома всех в ужас привела. Ругали за это здорово. Ругали и за другое, бывало, но так − редко. Язык был ободран капитально, а слезы выливались из меня, как из колонки, что напротив дома… Долго вообще гулять не пускали − в наказание…
А прошло время − опять все нипочем!
Опять санки, лыжи, горка! Здорово! И просто так − хорошо зимой!
И в снегу-то я купалась, и не раз, так что дома, вернее, в коридоре нашего подъезда, меня, не отлучая от пальто и валенок, усердно обметали веничком, а потом уже раздевали и согревали, так сказать. Снег из валенок я старалась вытряхнуть прямо на улице, а валенки почистить об железяку на пороге, чтоб дома не ворчали. А шапка не бывала сильно мокрой потому, что воротник пальто я поднимала заранее и затягивала шарфом.
На другой день выйдешь − и опять − красота!
…Кататься с горки, лежа на санках, мне пришло в голову не сразу.
Когда я уставала от катаний, то, сидя, то задом наперед, то в воображаемых историях, я просто садилась или ложилась на санки, смотрела вверх. Зимой темнело рано. Сначала небо становилось темно-серым, невыразительным, потом − туманным, с мутным налетом, а если туман прояснялся, из этого налета постепенно выступали кристаллы звезд, очертания созвездий, контуры Луны. Любимая картина. Непостижимая тайна устройства Вселенной… Еще я и в школу-то не ходила, а карту неба знала почти наизусть: Млечный Путь − он как мой собственный путь; ковшики Медведицы, большой и малый − небесная утварь для животных Земли; Полярная звезда − перл из чудесной сокровищницы; Луна, всегда разная и таинственная − кладовая несметных сокровищ небесных, потому и самая большая из всех небесных созданий, что драгоценностями набита до отказа, − вон как раздувается в полнолуние!
А какие они, эти клады и сокровища, откуда взялись?
А мы откуда?
Некого было про все это расспрашивать, взрослым было не до того, что ли, а сверстники обсмеяли бы. Поговорить серьезно - не с кем. Еще скажу, что тогда я ни разу не слышала о знаках зодиака, да и о самом зодиаке, почти не знала о планетах и многом другом, но общее родство с небесами я почувствовала очень рано. Пусть все это было пока необъяснимым, несколько таинственным, но именно эта тайна объединяла все мои знания и догадки в нечто целое. Я и города-то не видела толком, мала была для этого, наверное; не знала, что, кроме города есть и страна и другие страны и континенты, но то, что существует мир, в котором есть кусочек моей жизни или вся моя жизнь, и есть мир неба и звезд − это я уже знала. Также знала, что когда-то обо всем остальном мне расскажут или оно само по себе прояснится.
Приходилось только ждать.
Я ложилась на санки поудобнее, плавно съезжала на дорогу.
Звезды вздрагивали надо мной. Мне казалось, что я плыву среди звезд по звездному океану, что небо − очень, очень близко, вокруг меня, что я − его часть. Съезжаю снова и снова, взлетая выше и выше. Небо смотрит на меня так же, как и я на него. Оно мне интересно, думаю, что и я ему − тоже, именно я, маленькое, живое, мыслящее существо; пусть кому-то сейчас нет до меня дела, но там, высоко-высоко, все про меня известно. Я когда-нибудь вырасту, все узнаю, всему научусь и кем-нибудь стану. Нет, я уже и теперь…
Да, что я уже и теперь?
Кем-то стала или уже была!
А как же все другие?
Неужели они понимают это как-то иначе?
…Не знаю, не помню, так ли и то ли было в мелких подробностях, но ощущения восторга и единства с Великим - с тех пор - у меня остались навсегда. Я забывала обо всем другом и второстепенном, и мечтала о главном, еще не зная точно, в чем оно заключено. Мне представлялось, что даже если и пройдет время, изменится общий фон и место событий, изменюсь и я, и мои взгляды, и неизвестно, какая там у меня будет жизнь, то эта страничка все равно останется одной из самых важных в книге моей памяти.
Как же я любила забегать вперед!
Место и окраска событий, конечно же, изменились. Места и события часто менялись на протяжении моей не такой уж короткой жизни… Но остались − по сей день − и тот дом, и тот двор. Осталась на том же месте и та горочка, только с годами стала более пологой, неприметной для чужого глаза. Не знаю, замечают ли ее вообще теперешние дети: так, неровная наклонность маленького двора между двумя старыми двухэтажными домиками.
Зато небо измениться, ну, просто не могло!
В моей памяти до сих пор ясно сохранились многие эпизоды моего раннего детства. Тогда уже мне прочитали много хороших книжек – стихов, рассказов, сказок. Сама я научилась читать только в школе, поэтому часто просила взрослых почитать мне вслух: брала понравившуюся книжку, открывала на запомнившейся страничке, ходила по пятам и настойчиво просила: читайте, пожалуйста! Как только научилась читать сама, книжку из рук уже не выпускала. Когда училась в начальной школе, прочла большинство детских книг, популярных в то время. То есть из слушательницы я превратилась в читательницу, как назвала меня бабушка, в «читальницу». Дома меня так и стали называть: «читальница». Нравилось мне и рисовать героев запомнившихся произведений (правда, художницей меня не называли), в основном, это были герои сказок. Сказочные герои казались почти реальными, хотя события, происходящие с ними, были мало схожи с теми, что происходили со мной или с моими ровесниками.
Интересно, как же всё это случается в сказочном мире?
Как и откуда происходит волшебство? Наверное, первое моё восприятие было буквальным, но когда сказку перечитываешь несколько раз, то становится понятным ее переносный смысл. Время шло, и меня всё более привлекали сказки со сложным сюжетом, когда характеры героев раскрывались постепенно. Особенно нравились сказки в стихах, правда, такие встречались не часто...
Размышляя над сказками вообще, я приходила к мысли, что весёлого в них мало, зато много интересного и поучительного. Попадались и страшные сказки, которые надолго не выходили из головы, – нет, такие мне нравились не очень, хотя… Особенно запоминались, как я их называла, зимние сказки. Например, о снегурочке, об уточке Серой Шейке, или «Двенадцать месяцев», «Лиса и Волк», «Лиса и Заяц», «Морозко», «Зимовье зверей». Герои этих сказок были поставлены в такие обстоятельства, когда острота сюжетов усугублялась суровостью зимы, в условиях которой и происходили сказочные события. Если холодно и зябко, тогда скорее оценишь тепло – хоть в сказке, хоть в жизни.
Для этого и нужны испытания – не иначе!
Зимой я очень любила гулять. Гуляли вместе с ребятами, часто брали санки и салазки, барахтались в снегу, бросались снежками. При хорошей погоде, катались до тех пор, пока хватало сил. Если чувствовала, что устаю, садилась на санки, отдыхала и… сочиняла в уме какие-то сказочки, а чаще – представляла себя на месте известных сказочных героев и героинь, немного подправляя ход повествования. Или уже дома, лёжа в постели, засыпая, продолжала ту же сказку – о себе и о других.
Как? А так. Жалко, очень жалко беззащитную уточку Серую Шейку – и полынья расширялась от притока тёплой воды, появившегося по моему желанию – вот уточка и спасена; тут же приходит весна, а потом – лето, все опасности позади. Жалко и жадную мачеху с ее нетерпеливой дочкой в сказке «Двенадцать месяцев» – и собачьи шубы, подаренные им братьями-месяцами, я запросто меняю на… Ну, пусть это будет воздушный шар, который моментально унесёт двух родственниц подальше, в жаркие страны (они и замерзнуть не успеют!), где их быстро исправят трудами на рисовых полях из корейских сказок. А Снегурочка пусть вовсе не прыгает над горящим костром, да это и невозможно сделать: пошёл сильный дождь и залил огонь – вот и нет печального конца. А сказку «Морозко» вообще можно не так начинать, тогда она и закончится совершенно по-другому!
Или это будет совсем другая сказка? Не знаю…
Когда мне прочитали сказку о Снежной Королеве, то я подумала: эта необычайная, фантастическая история может в любой день произойти со мной, случиться в моей жизни. Но только я не знала, хорошо это или плохо. Конечно, мне ни за что не захотелось бы, чтобы какая-то коварная королева, пусть и Снежная, увезла в своё сверкающее ледяное королевство моего младшего брата, которого ничего не стоило подхватить вместе с санками, закрутить вихрями снегопада и умчать за тридевять земель. Но вдруг, и в самом деле, когда мы будем гулять, Костя увлечётся игрой с другими детьми, выбежит на улицу, а там всё это и произойдет, и тогда…
Тогда мне будет можно, или нет, будет просто необходимо пуститься на его поиски – так положено в этой сказке. Я бы так и поступила без раздумий; зато по дороге встретилась бы с десятками чудесных героев, повидала бы разные края, получила бы яркие впечатления, было б весело и здорово! Пусть так, но, к огорчению, в то же самое время Костя томился бы в плену у Снежной Королевы (а в его сердце – осколок того ужасного зеркала!), а наши родители пребывали бы в страхе ожидания: найдется ли сын, не пропадет ли дочь… Да не совсем так: папа и сам на месте не усидит, а будет искать нас, только как он узнает, где искать?
Нет, так не годится.
Но на самом-то деле, мои выдумки были просто смешными, потому что Костю одного никогда не пускали на улицу, мне же разрешалось гулять самостоятельно только перед нашими окнами, и чтобы дальше – ни ногой. Вот и каталась на санках во дворе с маленькой горки, поэтому ничего страшного с нами случиться не могло!
А мечталось вовсе не о страшном, а о таинственном…
Иногда я задерживалась на улице допоздна. Помню… Усиливался мороз, кружилась позёмка, начинался снегопад, и мысли о Снежной Королеве приходили опять и опять. Вдруг она где-то поблизости или уже мчится сюда на снежных конях? Быстро темнеет, люди и дома растворяются в холодных очертаниях… Что, надо возвращаться домой? Надо, но так манит к загадочному, неизведанному, сказочному… Снежинки делают в воздухе акробатические перевороты, выстраивают сложные фигуры, застилая небо и землю пушистым полупрозрачным покрывалом. Поднимается метель, снег забивается в глаза, за воротник пальто, в валенки, в рукавички. В двух шагах – почти ничего не видно. И вот… Чей-то силуэт выступает из хоровода снежинок и разрастается вихрями снегопада, ежесекундно меняющего своё направление. Снежные хлопья обрисовывают высокую царственную фигуру, мантию, корону. Снежная Королева! И не одна, следом – её челядь и сопровождение. Чудеса… А вокруг становится совсем темно, холодно и страшно. Или мне это только кажется?
Нет, так не годится, надо скорее бежать домой, пока беды не вышло!
Бегом – в подъезд, скорее – стучусь в дверь нашей квартиры (хорошо, что первый этаж!). Раздеваясь, сбивчиво рассказываю, мол, только что мимо меня промчались санки Снежной Королевы, и ещё какие-то другие расписные сани и повозки, и я могла бы тоже пристроиться в тот ряд.
– Что, не верите?
Да нет, делали вид, что верили, ведь не за горами Новый год, самая подходящая пора для сказок и чудес. А мне было понятно: думают, что я маленькая, что сочиняю небылицы. Ах, как взрослые люди недооценивают сказки!
– А вы сами не хотели бы попасть в сказку?
Тут уже поторапливали нетерпеливо, помогали раздеваться, вытряхивали снег из валенок, развешивали для просушки пальто, шапку, варежки. Ну что, «читальница», сказками зачиталась, да и сама их придумывать научилась? Смотри, в другой раз скорее домой приходи, а то обморозишься невзначай!
Папа собирался пойти с нами на вал, когда потеплеет, чтобы мы с братишкой покатались на лыжах, а заодно и сфотографировать нас. Да и неплохо было бы погулять всей семьей и успеть сделать несколько фотографий в Кремле, пока зима в разгаре, пока много снегу и сугробы чистые.
– А когда будем строить снежный дворец? Ведь будем же – а то упустим время, и зима скоро пройдет. Обещаешь?
Папа обещал, конечно – строили и снежные городки, и крепости, и дворцы, лепили снежных баб и снеговиков. Как-то, ближе к новогодним праздникам, вылили и Снежную Королеву – получилось ничего себе: и шуба, и корона, и украшения (из старых елочных гирлянд и фантиков), и даже ледяной жезл. Только особой стройности и величия в ней не было, она получилась не очень-то похожей на сказочную. Да и слишком долго простоять ей не пришлось: выхожу на другое же утро во двор – а её словно и не было. Жаль, кто-то разрушил наши творения… От снеговика хотя бы морковка на снегу осталась, а от Снежной Королевы – горка пушистого снега, посыпанная обрывками цветных бумажек.
Вот так и закончилась сказка уходящего года.
Но не стоило огорчаться: тут же началась другая, новогодняя. А там, глядишь, и весна грядёт со своими, весенними сказками. А после – лето, «царство зелени и света».
И каких сказок только не бывает!
 Анна Захаровна – это целая история…
Анна Захаровна – это целая история…
Владимиру Михайловичу после Чернобыля становилось все труднее ездить на работу в центр Москвы из Тушино, и получалось, что надо менять квартиру. Долго искали вариант, и пришлось остановиться на Лефортово, откуда было гораздо ближе к работе. Владимиру Михайловичу было некогда заниматься вопросами нового устройства, и я должна была все, что можно, решить сама. Квартира нам подходила, а все остальное приходилось приводить именно к этому знаменателю. Прежде всего, я стала думать, где теперь будет учиться Маша, и оказалось, что 424-я школа – совсем недалеко. Здесь – договориться было просто, а вот как быть с музыкальной школой? На весь Тушинский район была только одна - семнадцатая музыкальная школа, а что здесь-то? Говорили, где-то близко есть такая школа, но чтобы узнать точно, требовалось время.
Все справочники, которые мне попадались под руку, были старыми, и, кроме музыкальной школы на Авиамоторной, я ничего не находила. Съездила в эту школу – мне там все не очень-то понравилось. Сказали, что хора вообще нет, а педагоги перегружены. Как же это – без хора? Был октябрь 1988 года, Маша пошла в шестой класс, а для музыки – это предпоследний год занятий по семилетнему курсу, очень важный год. Хотелось дать ребенку хорошее музыкальное образование, ведь она музыкой увлеклась серьезно. Продолжать ездить в Тушино не стоило – очень далеко, да и другие причины были...
И вдруг я откуда-то узнаю, что наискосок от нашего дома на Солдатской улице, напротив кинотеатра «Спутник» - 29-я музыкальная школа, и неплохая, говорят. Хорошо! Но возьмут ли туда моего ребенка – с улицы, да и уже не в начале, а в середине четверти? Зашла к директору, все объяснила, и он спросил: как Маша учится? Я показала прошлогодний дневник, где были одни пятерки… Он внимательно просмотрел его и сказал, что, возможно, примем. Просил перезвонить. Перезвонила, а он и говорит, что ребенка послушает опытный педагог Анна Захаровна Рубина. У нее есть вакантное место в классе, и если девочка понравится, то возьмет к себе.
Так мы и пришли к Анне Захаровне.
Оказалось, внешне это – приятная и мягкая, пожилая женщина. Она попросила сыграть прошлогоднюю экзаменационную программу, которую Маша немного уже забыла, но Анне Захаровне было вполне достаточно услышанного. Она сказала:
- Девочка способная, но требует большой работы над собой. Вы знаете… Полька Рахманинова - это неплохо, но в исполнении имеется масса недочетов. Надо много заниматься. Вы согласны?
- Конечно…
…Так Маша и попала к Анне Захаровне. За это – надо судьбу благодарить. Я и сама понимала, что серьезно над исполнением Маша никогда не работала. Упражнения, этюды, гаммы – проскакивали быстро. Красивые произведения она учила с удовольствием, а черный труд – это тяжело и долго. Хотелось погулять, почитать интересную книжку, посмотреть кино и прочее… К тому времени мы уже окончательно переехали. Машенька стала ходить в две новые школы. В общеобразовательной школе встретили приветливо, да и в музыкальной тоже. Там и там говорили, что по всем предметам Маша соответствует нужному уровню.
В музыкальной школе, однако, нужно было не только соответствовать определенному уровню, но и ставить перед собой новые, более трудные задачи, и прежде всего – по специальности, а затем - по другим дисциплинам. С первого дня Анна Захаровна стала заниматься с Машей серьезно, да так, как ребенку раньше и не снилось. Только теперь Маша поняла, что такое - строгий и требовательный педагог, да к тому же блестящий музыкант. Анна Захаровна прекрасно исполняла все произведения, которые включала в программу своих учеников. Маше это было очень по душе. В старой музыкальной школе такое происходило редко… Со временем Машенька поняла, что Анна Захаровна для своих учеников сил не жалеет, стремится передать им свое мастерство и умение. Анна Захаровна работала с учениками детально, назначала дополнительное время каждому, кто требовал особенного внимания. Некоторых даже приглашала заниматься домой, не считаясь с личным временем. Ее дочь, Татьяна Рубина, как мы узнали вскоре, - замечательная пианистка, заслуженная артистка России. У Анны Захаровны и Татьяны Ефимовны случались такие выступления, когда они концертировали вместе, играли в четыре руки и на двух фортепиано.
Когда я узнала про то, что Анна Захаровна оказалась в состоянии воспитать и вырастить такую дочь, сказала Машеньке:
- Это может только истинный педагог, потому что обычно дети неохотно учатся профессии у своих же родителей. Чаще всего, они не воспринимают своих родителей серьезно, а более прислушиваются к чужим авторитетам. Так что тебе остается одно: заниматься кропотливо, слушаться Анну Захаровну и не подводить ее.
Маша, конечно, старалась, и это было заметно.
Меня даже удивило то, что раньше она без оглядки рвалась на улицу, к друзьям или еще в какие необъятные дали, а тут сразу по возвращении из общеобразовательной школы – только в музыкальную школу и больше никуда. Вспоминаю, когда составляли расписание индивидуальных и общих занятий в музыкальной школе, получилось так, что все дни от понедельника до пятницы у Машеньки оказались заполненными. Жаль, ведь в Тушинской школе мы всегда составляли расписание таким образом, чтобы можно было совместить с двумя уроками по специальности, что положено проводить в неделю, - и сольфеджио, и теоретические дисциплины, и даже тот хор, который Маша очень любила. Тут же получилось, что ничего не совпадает, что на занятия нужно ходить каждый день, то есть все пять дней в неделю.
Анна Захаровна спросила у меня:
- Устраивает ли вас такое расписание?
- Понимаете, Анна Захаровна… Я не знаю, можно ли так сделать, но хотелось бы хоть что-то уплотнить, чтобы оставить Маше немного свободного времени.
- Свободного времени… - удивилась Анна Захаровна. - Свободного для чего?
- Ну, для всех остальных дел, ведь кроме школьных уроков ребенку нужно… хотя бы иногда погулять.
- Погулять? А зачем ей гулять? То есть, зачем гулять - отдельно? Пошла в школу – прогулялась, пошла обратно – снова прогулялась, вот и хватит. Сколько вообще можно гулять? Нужно много работать, чтобы наверстать упущенное и добиваться лучшего! Вы не согласны?
- Конечно… согласны.
Да как тут не согласиться? Мне-то согласиться было легко, а как быть Маше? Раньше она много чего учила тяп-ляп, Оделия Харитоновна, ее прошлая учительница, все ей спускала и особенно не требовала. Я сама когда-то купила в Великом Новгороде сборник ганонов, привезла Маше и сказала, что все эти упражнения нужно играть каждый день, даже если и не задавали. - Зачем это? - Подумаешь! - Нет, не подумаешь, а так надо: и ганоны, и гаммы играть – на четыре октавы, а не на две, и непременно - расходящиеся.
Да разве она меня слушала?
Зато привыкла гулять дотемна, даже зимой, а заниматься музыкой по вечерам, когда уже устанет за целый день. Лыжи и коньки трещали от усердного катания, и менять их приходилось частенько. А я-то как раз недавно и купила хорошие фигурные коньки, потому что старые стали малы: была рада, что попался нужный размер, ведь так просто в те годы ничего нельзя было купить! По переезде на эту квартиру мы очень обрадовались, что сразу же за музыкальной школой – стадион «Электрон», что туда пускают детей покататься на коньках. В старом нашем дворе заливали очень маленький каток, а тут – целое поле!
Вот о чем я думала, возвращаясь к нашему последнему разговору с Анной Захаровной…
Наверное, и самой Маше было нелегко перестроить свое внутренне отношение к занятиям музыкой, к ученическим обязанностям. Она уже понимала, что на одних способностях далеко не укатишь, как на тех же коньках. Занималась все усерднее. И если раньше я подгоняла ее и уговаривала быть собраннее и трудолюбивее, теперь ее было просто не оттащить от инструмента. Две девочки из ее класса также занимались в этой же музыкальной школе, только у других педагогов. Так они обе говорили, что Маше просто повезло.
После того, как мы сходили на сольный концерт Татьяны Рубиной в Рахманиновский зал Московской консерватории, где она исполняла произведения Шопена и Шумана, Маша совсем расстроилась и сказала мне тут же, после концерта, в вестибюле:
- Да, мамочка… Никогда я не буду играть так, как Таня Рубина.
- Ну, знаешь… Да этого тебе пока что и не надо. Помнишь, как ты мне когда-то хныкала: мамочка, никогда я не буду играть так, как ты… И что? Ты давно уже играешь то, что мне в моей музыкальной школе и не снилось. А большое мастерство достигается как талантом, так и трудом. Тебе же – расти и расти. А там видно будет. Разве не понятно?
- Понятно. Мне еще полтора года нужно учиться до окончания школы, и я должна успеть научиться многому у Анны Захаровны.
- Вот видишь, ты все правильно рассудила…
…Конечно, Маша все понимала правильно и старалась делать так, как надо. Владимир Михайлович поначалу не понял, откуда у Маши взялась такая серьезность в отношении к музыкальным занятиям, но когда познакомился с Анной Захаровной на одном из ученических концертов в музыкальной школе, был очарован ею безмерно…
Маше удалось успешно закончить шестой, затем и седьмой класс. Труд педагога и ученицы не был напрасным. За это время Маша сделала выбор профессии: осталась учиться в дополнительном, восьмом классе, чтобы подготовиться к поступлению в музыкальное училище. Занималась успешно, уже привыкнув к Анне Захаровне и ее высокой мерке. Готовились усиленно. Мы долго не знали, в какое училище поступать. Решили, что будет поступать в Ипполитовское. Да, поступила удачно, на отделение хорового дирижирования, все предметы сдала на «отлично». Анна Захаровна поначалу удивлялась, почему Маша не стала поступать на отделение фортепиано? Но потом согласилась сама с выбором своей ученицы, потому что Маше это направление очень нравилось. Хоровое пение Маша полюбила с самых первых дней обучения в Тушинской музыкальной школе, принимала живое участие во всех концертах и выступлениях хора, была его солисткой.
Вообще любила коллективное творчество!
После окончания училища Маша поступила в Московскую консерваторию, на то же отделение, но не остановилась на этом и продолжила обучение на факультете оперно-симфонического дирижирования.
Позже – поступила в ту же аспирантуру.
Как оказалось, все было не напрасно. Музыка – это ее призвание, и реально обрести его помогла именно Анна Захаровна Рубина. Этого – не отнять. Право, никогда не знаешь заранее, когда, где и при каких обстоятельствах встретишь человека, который перевернет твое какое-то представление или определит твою судьбу.
Встреча нашей семьи с Анной Захаровной была, к счастью, именно такой, определяющей Машину судьбу…
Да, а те фигурные коньки так и провалялись в кладовке все оставшиеся учебные годы, и на стадион «Электрон» Маша только и смотрела - со стороны забора, по дороге в музыкальную школу!
 У моего брата Кости в 1980-е годы была замечательная собака, мальчик-спаниэль по кличке Дик. Не могу утверждать, что таких собак на свете больше нет, но то, что в Новгороде таких было мало – это правда. Мой папа с моим братом Костей давно присматривали себе собаку - с перспективой на охоту, в Новгороде Великом это очень распространенное занятие. Взяли Дика, когда тот был малюсеньким слепым щенком. Принесли домой буквально в варежке. Щенок унаследовал богатую родословную, которой могут позавидовать иные короли. Царский был щенок! Когда мама поила его из бутылочки теплым молочком, он, еще не зная меры, пил «до отвала» и тут же отваливался лапками вверх, круглый, как маленький мячик. Подрастал быстренько. Был очень занимательным. Кушал, баловался, делал лужи. Вскоре самому надоели эти лужи, которые без устали напускал по всей квартире; стал проситься на улицу…
У моего брата Кости в 1980-е годы была замечательная собака, мальчик-спаниэль по кличке Дик. Не могу утверждать, что таких собак на свете больше нет, но то, что в Новгороде таких было мало – это правда. Мой папа с моим братом Костей давно присматривали себе собаку - с перспективой на охоту, в Новгороде Великом это очень распространенное занятие. Взяли Дика, когда тот был малюсеньким слепым щенком. Принесли домой буквально в варежке. Щенок унаследовал богатую родословную, которой могут позавидовать иные короли. Царский был щенок! Когда мама поила его из бутылочки теплым молочком, он, еще не зная меры, пил «до отвала» и тут же отваливался лапками вверх, круглый, как маленький мячик. Подрастал быстренько. Был очень занимательным. Кушал, баловался, делал лужи. Вскоре самому надоели эти лужи, которые без устали напускал по всей квартире; стал проситься на улицу…
Папа с мамой, конечно же, полюбили Дикушу, а Костины дети, которые раньше редко заглядывали к бабушке с дедушкой, теперь заходили гораздо чаще – поиграть со щенком. Особенно интересовался щенком Ромочка, говорил, что они хотели бы забрать Дика к себе. Так и получилось, что забрали, хотя и жили всей семьей вчетвером в одной комнате коммунальной квартиры. Детям, Марине и Роману, стало веселее в компании с собакой.
Вообще, Костя вместе с отцом всегда увлекались охотой, и летом, и зимой - сезона не попускали. Ходили и на уток, и на вальдшнепов, и на перепелов, а зимой на лося. Дику еще было далеко до этого, но уже не очень. Он рос, становился толковым и красивым представителем своей гордой породы. Сам – иссиня-черный и шелковистый, блестящий. Уши мягкие и длинные. Нос и лапы – чувствительные. Хвост – сильный и нетерпеливый. Глаза – умнющие. Весь – внимание. Быстро постиг обиходный лексикон и повадки людей, казалось, изучил каждого члена семьи. Хорошо знал свое место и роль каждого человека в доме. Был ласков и предупредителен с детьми, а дети в нем души не чаяли. Особенно же любил, когда его приводили домой (или в гости?) к дедушке и бабушке, носом чуял, когда и куда его ведут. По старой привычке, прежде чем провести ревизию всей квартиры, устремлялся на кухню – к бабушке. Дедушку любил без памяти, а бабушку по расчету: знал, что, в любом случае, его никто лучше бабушки не накормит и более нежно не приласкает. Костя с Диком обращался коротко и сурово, когда куда-то спешил, а в минуты отдыха расслаблялся душевно, и Дик от него не отходил.
Полюбил Дикуша и ту охоту, с которой ему пришлось-таки столкнуться. Правда, он поначалу не понимал, для чего нужна какая-то утка, что вот только что подстрелена и упала в болотистые дебри. Что с ней делать? Ничего, вскорости привык, понял, для чего его держат…
Зимой же, по грудь в снегу, нырял, подбираясь к далекой добыче – быстро научился. Кто для чего рождается на Земле? Охотничья собака, наверное, - для этого. Ружья, патроны, запах пороха стали для Дика привычными. В машине ездил спокойно, потому что брали в машину часто. Сидел как столбик, смотрел на дорогу, беспокойств не чинил. С другими собаками всюду ладил, зря никогда не задирался, вел себя достойно. В спокойной обстановке был серьезным и благородным. Конечно, я очень мало разбираюсь в собаках, хотя Дик – это не первая собака в нашей семье, да прошлые были в моем милом детстве, долго не задерживались, их отдавали потом кому-то на волю в деревню.
А вот Дик – другое дело… Когда мы приезжали из Москвы и Дик, переступая порог квартиры уже носом чуял посторонних, папа ему говорил про нас:
- Дик, это свои!
Дик понимал, вежливо давал себя погладить, не стеснялся и не выказывал неудовольствия и тревоги в наш адрес. А с Володей, бывало, и на охоту ходил, когда его приезд в Новгород совпадал с сезоном; оба друг к другу привыкли сразу. Я любила Дика, правда, немного с опасением, понимала, что лишний раз испытывать его терпение или привлекать его внимание не стоит. А Маша прямо «прилипала» к нему, гладила и обнимала, говорила, что заберет в Москву. Дик не возражал. Он был привычен к детям, Мариночка и Ромочка чего только с ним не вытворяли – был им как игрушка и как добрая нянька. Детей он очень любил и чувствовал свое перед ними преимущество в силе – сдерживался.
Мне казалось, что Дик был умнее и тоньше других собак его породы. Был – почти как человек, по своему собачьему интеллекту – был личностью… Все делал с пониманием. По одному слову выполнял все команды и поручения. Например, приносил тапочки – каждому свои, некоторые другие предметы, которые знал. На улице слушал хозяина со вниманием, шел без поводка и, например, подзывал издалека именно того, кого просил хозяин, то есть папа или Костя. Сторожил все, что прикажут. Брал еду только из рук хозяев и только после слова «можно». Если положить кусочек колбаски ему на его великолепный влажный нос и сказать «нельзя», то он застынет статуей ожидания. А как только скажут «можно», так он уже этот кусок проглотил. Прямо как в цирке! Не любил, когда ворчат и ругаются, а любил волю и природу. Мне кажется, что и на охоту он рвался потому, что выезжали за город, разводили костер, угощали мясом…
В общем, любил добрые компании.
Я видела не один раз, как Дикуша тщательно обследовал любую новую местность, куда попадал, обнюхивал травинки, камешки, обходил вокруг кусты без видимой надобности. Ложился на траву, философски глядя вдаль – отдыхал. Очень не любил обязательных вещей и ритуалов. Но… Хотя и не любил плавать, а по приказу - пожалуйста, достану заброшенную в воду палку; не любил мыть лапы после улицы, но раз заведено – бегом в ванную; не нравилось стоять на задних лапах, но если детям нравится – вот, смотрите!
…По законам собачьего клуба раз в году нужно было показываться на смотринах, подтверждать родословную и кучу прошлых медалей, заслуженных родителями. Этого Дик точно терпеть не мог, в чем повторял своего хозяина Костю, который «показухи» вообще не переносил. Смотр обычно проходил на городском стадионе и состоял из трех этапов, трех кругов. Эти круги нужно было проходить вместе с другими собаками и их хозяевами. Из первого круга лучших по выучке и выправке собак отбирают во второй, а уж самых-самых – в третий, победный. Костя рассказывал, что, как только он начинал собираться на такое мероприятие, Дикуша уже понимал, куда пойдут.
- Надо, хозяин?
- Надо!
Приезжали на место – суета, гомон; собаководы толкаются, прихорашивают собак, вытаскивают документы, оформляют какие-то бумаги. Скука… Скоре бы закончилось все это! Ну, первый круг выдержать еще можно. И это еще не все? - Конечно, ведь отобрали во второй, так что – давай! Вот незадача… Дик устало смотрит на Костю:
- Надо, хозяин?
- Надо!
…Надо так надо, и опять – то же самое, но уже в числе избранных. Ура, вышел в третий тур! Дик, ну давай, ведь ты же самый лучший, получай причитающееся тебе золото, как это делали твои предки! Давай. Давай же!
- Надо, хозяин?
- Надо!
…Эх, хозяин! Дик тормозит, останавливается у последнего рубежа, смотрит умоляющими глазами: все, хозяин, больше не могу… Собачье терпение все вышло. Костя пытался было - по первому разу - настаивать, так Дик вырвал поводок, отбежал подальше и сел как вкопанный. Протестовал, значит. А как же другие приказы и команды хозяина, выполняемые по первому же слову? – Так те были по делу. А здесь-то мы что забыли?
Медали – пусть получают другие. Что нам с них?
Так и приучил всех к мысли о свободе выбора. Вообще, свободу Дик любил во всем, так и воли давали ему предостаточно. Несмотря на то, что порода была редкая, собака завидная, Костя все же практиковал выпускать его гулять во двор самостоятельно. Вот этого мне было никак не понять, при всех объяснениях. Такой соблазн – явно не к добру… Я только спрашивала:
- Не могут ли украсть собаку?
- Да ты что! Разве Дик даст себя украсть?
- И все же…
- Понимаешь, ему указана та окружность, внутри которой он может гулять свободно – во дворе и около папиного гаража. Да и мы присматриваем, конечно.
- И он не нарушает?
- Вроде, не замечали.
- А как же домой возвращается? Как открывает двери в подъезд и в квартиру?
- В подъезд – смотрит, кто проходит из соседей. А там – в пять секунд взлетает на второй этаж, как гавкнет возле двери – вот мы и услышали.
- Вот это да!
…Все было бы хорошо, но однажды, по приезде из Новгорода в конце летних каникул, Маша рассказала мне нехорошие новости. Недавно с Диком случилось то, дедушка уличил его в излишней свободе гуляния. Пошел однажды дедушка по каким-то делам со своей улицы Великой в сторону Кремля. Дошел до моста через Волхов, спускается вдоль парка, как вдруг видит, по краю полянки, чуть ли не по самому берега Волхова, прогуливается Дик – как ни в чем ни бывало. Дедушка усомнился, хотел глазам своим не поверить: вдруг он ошибся, спутал издалека с другой собакой той же породы? Громко позвал Дика, и тот (а это был точно – он!), узнав дедушку, с места в карьер рванул к нему, сияя от счастья, и вдруг… Сообразил! Резко затормозил, прижался к земле, прямо врастал в траву, притворяясь ее былинкой. Виктор Николаевич, конечно, знал, что Дика выпускают гулять одного, что не вызывало его одобрения – напротив… Но, даже если так, - чтобы тот гулял так далеко от дома - это непорядок; что-то не то происходит. Дедушка снова окликнул Дика, но тот затаился, отползая к кустам, все скорее исчезая из поля зрения. Дедушка тут же решил разобраться в этом вопросе, отменил все дела, по каким куда-то шел, повернул обратно. Пошел к Косте домой. В Новгороде – все относительно недалеко, и через десять минут Костя уже открывал дверь, не подозревая, для чего пришел отец. Дедушка спросил строго:
- Где Дик?
- Как где – вон, лежит на своем месте.
- И давно лежит?
- Да нет, незадолго перед тобой вернулся, погулять выпускали.
…Дедушка прошел в комнату, и видит, что Дик устало «спит», положив голову на лапы.
- Дик, ну-ка вставай!
Дику вставать неохота и он «спит» дальше, он еще надеется, что дедушка поверит в то, что ошибся, что там, на берегу был вовсе не он. Дедушка же все рассказал Косте, браня его за то, что тот так безответственно относятся к собаке, что Дика могут и в самом деле украсть, или отравить, или покалечить. Дедушка был очень опечален и огорчен,: Дикуша был ему слишком дорог. Дик уже и сам понял, что натворил, какую смуту внес. Оторвался от своего половичка и забился под стол, в самый дольний угол. Виноват, точно виноват…
Дедушка снова позвал:
- Давай-ка, выходи!
Дик нехотя вышел, голову склоняя..
- Эх ты…
Дедушка обнял собаку, а Дикуша облизал его с ног до головы, вымаливая прощение. Дика, конечно же, простили, да и не виноват он ни в чем.
Просто…
Животное требует к себе того же внимания и заботы, что и человек. Наверное, как детей нельзя отпускать по волнам жизни без контроля, так и любое привыкшее к дому животное, тем более собаку, нужно бережно опекать. Если собака живет во дворе собственного дома – это одно, а если в квартире, – совершенно другое. Такой собаке гулять безнадзорно - как это же? Где она была, что пила или ела, с какими собаками компании водила – кто его знает?! С другой стороны: с кем же гулять, когда все домашние заняты своими делами?
Поэтому Костю, так вольно относившегося к любимой собаке, тоже понять можно – в чем-то, но с большим натягом.
Машенька мне пересказывала это и говорила, что сильнее всего за Дика огорчилась бабушка… Но потом все как-то подзабылось, загладилось и пошло по-старому, правда, за Диком стали следить строже. Некоторое время все было спокойно. Следующей зимой снова брали Дика на охоту, что его подбодрило. Но с какого-то момента все поневоле обратили внимание на то, что состояние здоровья собаки пошатнулось. Сначала периодически, а потом все чаще стали замечать, что Дик становится более вялым и менее инициативным.
Отчего это?
Начали разбираться, откуда это все началось. Костя стал припоминать, что не столь давно Дик вернулся с самостоятельной прогулки весь взъерошенный и взбудораженный так, как будто его драли чужие собаки. Он не просто вернулся, а влетел в дом опрометью, словно за ним гнались. Возможно, хотели украсть. Когда Дикуша стал заболевать, высказывались предположения, что тогда или больная собака укусила, или какой укол вкололи люди злые…
Эх, как тяжело мне было это узнавать!
Я же так боялась именно этого, да и дедушка всегда был категорически против беспризорности – во всех отношениях! Бабушка, Нина Евсеевна, как врач просила Костю показать Дикушу специалистам, но у Кости на все его рабочие и семейные дела времени порой не хватало, и уделить нужное внимание Дику он никогда не успевал. Считал, что обойдется и теперь. Потом же, когда понял, что дело оборачивается круто, возил в ветеринарную лечебницу, да вразумительного объяснения там не услышал. А Дикуше становилось все хуже, так что он уже и гулять не просился. Ему бывало нехорошо от еды, от питья, от постороннего шума. Это становилось очень серьезным, потому что собака жила в одной комнате с детьми. Дик уже частенько не сдерживался, огрызался на Мариночку и Рому по всяким пустякам, а то и гневался беспричинно, чего раньше ни за что бы себе не позволил. Дик сам себя не узнавал: не мог владеть собой, чувствовал, что глубоко виноват, но в чем?
Животные болеют и страдают от тех же болезней, что и человек, только сказать ничего не могут. Дикие животные, живущие на природе, находят себе излечение травами и корешками, а домашние животные – в полной зависимости от людей, своих хозяев. Как люди сумеют или смогут ими распорядиться – все остается на совести людей.
Горько осознавать именно это…
Через год, когда Маша опять приехала на летние каникулы, бабушка с дедушкой и рассказали последние новости. Машенька очень огорчилась, но надеялась все же, что Дик поправится. Ей очень хотелось повидать его, да повидаться уже не пришлось. По стечению обстоятельств, все остальное произошло очень быстро. На следующий же день позвонил Костя и сказал, что у Дика дела очень плохи, что снова возил его на какие-то консультации, еще куда-то, и все специалисты утверждали: собака – не жилец. Просили оставить в ветеринарной лечебнице, чтобы усыпить, но Костя отказался категорически, привез Дика обратно домой.
А что дальше делать? Никто не знал.
Спустя два дня, уже поздно вечером, в пятницу, когда Маша почти засыпала, в дверь позвонил Костя. Ему открыли дедушка с бабушкой. Машенька слышала, как Костя плакал и говорил, что Дик вышел из себя, бросается на людей, что начались припадки, что умирает… Держать дома его нельзя ни минуты.
Лечебница до понедельника закрыта.
Костя с отцом вытащили с антресолей ружье и патроны.
Пошли в гараж заводить машину.
…Они вернулись только к утру, и до утра Маша с бабушкой не спали, замирали от страха, как там и что… Похоронили Дикушу в чистом поле, за Панковкой, недалеко от дедушкиной и бабушкиной дачи, по дороге на Шимск. Не знаю, что и как чувствовал Дик по дороге в машине, сопротивлялся ли судьбе. А может, увидев то ружье, подумал, что едут на охоту…
Или от боли уже ничего не понимал и не замечал?
Дик прожил только шесть лет, и для собаки – это не крайний возраст. Все очень переживали его смерть, а мы с Володей – еще и потому, что Маша оказалась свидетелем такого трагического случая, ведь она могла вполне приехать через неделю, и хоть не видела бы и не слышала всего того! Да так вышло… Но как известно, жизнь домашних кошек, собак, многих птиц - гораздо короче, чем жизнь человека, значит, нужно всегда быть в готовности, что расставание с ними неизбежно. Только привыкнешь к любимому другу, как вскоре можно с ним расстаться. Что ж, даже если это – только неутешительная теория, то все равно…
Дик остался последней собакой, которая была у нас в доме.
Больше собак не заводили, и дети даже не просили об этом.
А когда нам приводилось ехать по Шимской дороге мимо того поля, мы всегда заворачивали к Дику.
Жаль, что все любимые живут на свете так мало.
 А вот что произошло в пятом классе. К тому времени Маша подросла, стала почти самостоятельной девочкой. Уже могла в чем-то разбираться вполне без чьих-либо советов, а кое-что вообще решала сама, никого не посвящая в свои трудности. Но уж так ли она могла полагаться только на себя? Она об этом, наверное, не задумывалась…
А вот что произошло в пятом классе. К тому времени Маша подросла, стала почти самостоятельной девочкой. Уже могла в чем-то разбираться вполне без чьих-либо советов, а кое-что вообще решала сама, никого не посвящая в свои трудности. Но уж так ли она могла полагаться только на себя? Она об этом, наверное, не задумывалась…
Нагрузки в обеих школах значительно возросли, однако, времени на прогулки у нее оставалось все же достаточно. Зимой – санки, коньки, лыжи и веселые зимние игры, а летом – все прелести жизни. Всегда и везде – в постоянном движении, без движения она не могла. Я даже и не запомнила ни разу, чтобы Машенька долгое время проводила в неподвижном состоянии.
И вдруг как-то однажды весной приходит из школы, вяло обедает и сразу же садится за школьные уроки, чего раньше не было: или тотчас в музыкальную школу ехать надо, или на улицу - срочно погулять. А тут – сидит и час, и два, и больше… Что-то пишет молча, очками уткнулась в тетрадку, в раскрытый учебник не глядит.
Я как раз никуда не ушла, оставалась дома, и не заметить этой странности не могла. Спрашиваю:
- Что, разве на музыку сегодня не надо?
- На сегодня все отменили.
- А чего это так усердно пишешь и пишешь? Что – контрольная будет?
- Ага, завтра же, очень важная.
Долго еще высиживала, но все равно когда-то пришлось и встать из-за письменного стола. Вот когда она вставала, я и вошла в комнату. Маша медленно отодвинула стул и осторожно переставила правую ногу. Да, но… А левую ногу? - Ее Маша вытащила из-под стола еле-еле. Ногу? Я не узнала ее левую ножку – на коленке раздувался огромный шар, размером как два или три больших кулака. Колготки, не рассчитанные на такую специфическую форму коленки, предельно растянулись на ней и трещали в поперечном натяжении. Она сама глянула и… заревела во весь голос. Мне просто стало плохо – на месте: я моментально выронила все, что держала в руках, хорошо, хоть это был не кипящий чайник, например. Сквозь натянутые колготки я осторожно потрогала этот шар, он был раздутым, как боксерская груша и твердым, как камень.
- Машенька… Что это такое? Откуда?
- Мамочка! Это я упала… нечаянно...
- Как же… можно так упасть? Когда и где? – настаивала я.
- В школе, не переменке. Еще утром. Мы с ребятами на улице бегали…
- Так чего ж ты сразу- то… Или сразу же такого не было?
- Не было. – Маша явно не хотела признаваться.
- То есть… Дай сообразить. Ну, ладно, но ведь даже когда из школы пришла, такого не было, иначе бы я заметила! Да ведь тебе же больно было! – не переставала причитать я. - Как же ты терпела-то столько времени?! И что же ты в школе не сходила в школьный медпункт – в ту же минуту, как только это произошло? Ведь тотчас же и разобраться было бы легче, да и до такого состояния дело не докатилось бы!
- Ой, мамочка…
- Эх, зачем же ты столько тянула! Ты потрогай, какая страшная, твердая опухоль! Ложись скорее.
Я срочно – это уже после шести часов вечера!- вызвала врача и, пока он к нам ехал, пыталась приложить лед, только к какому месту его прикладывать? Там нужно было целое ведро льда, чтобы этот шар окружить.
- Маша, ну, если не в медпункт, так почему ты сразу домой не пришла; более того: почему даже в обед мне ничего не сказала?
- Я думала, что ты ругаться будешь… - твердила она.
- Ты что - маленькая и глупая? Ругать – это не главное. Неужели ты не понимаешь, что у тебя с ногой очень серьезно? Я такого еще в жизни ни у кого не видела. Неужели нельзя было утром же домой прийти, а не терпеть и не тянуть до вечера – куда теперь тебя девать? А в школе - что же, ничего не заметили? Господи… Наверное, нужна какая-то операция, а уже скоро ночь. И в какую больницу тебя заберут теперь?
Приехал врач, сказал, что тоже никогда еще такого не видел. Велел собираться в больницу, стал звонить: куда возьмут. Я стала умолять, чтобы он просил взять Машу в нашу ближайшую, седьмую детскую Братцевскую больницу, которая буквально в десяти минутах ходьбы. Слышала, что там неплохое хирургическое отделение, и подумала также, что лежать придется долго, так хоть будет близко каждый день приходить к ней. Да, в эту больницу и отвезли, и хирурги еще были на месте. Сказали, что серьезно, что нужен снимок, что, возможно, необходимо хирургическое вмешательство, что лежать будет долго. Дела еще те...
Вот тебе экзамены, концерты и все остальное!
Взяли какие-то анализы, сделали еще что-то…
Велели приходить завтра.
Домой я вернулась поздно. Володя только что приехал с работы. Был очень удивлен, что дома никого нет в такое позднее время. Он чувствовал себя очень неважно, после Чернобыля сильно болел – сам недавно вышел из госпиталя. Боже, кругом одни болячки! Я ему все рассказала; он очень огорчился (не то, что я; ведь он эту коленку не видел!). Был готов тут же пойти в больницу. Ну, и зачем? Мне стоило большого труда убедить его, что это ничего не меняет, что не пустят, только устанет. Остались дома, а утром пошли в больницу. К Машеньке не пустили, но с лечащим хирургом побеседовать удалось. Врач сказал, что эта опухоль – гематома. Вот – снимок. По снимку видно, что сустав и коленный мениск, к счастью, не повреждены. Показал нам этот рентгеновский снимок, приблизив его к оконному стеклу. Жуть! Все понятно, все видно. Сказали, что сделали операцию. Все прошло удачно. Показал другой снимок. Видите? Понятно? - Прокололи, глубоко прочистили, обработали, наложили гипс.
Гипс – на три недели. Гипс? …Ну, хоть так…
Обещали благоприятные результаты лечения.
Володя частично успокоился и поехал на работу.
Когда я пришла вечером в часы посещений, меня пропустили, наконец-то, в отделение. Я вошла в палату и… сначала я увидела этот гипс, а потом узнала самого ребенка, словно застала кадр из фильма ужасов: огромный белый корявый столб растянулся на всю длину ноги, как рыбацкий массивный сапог-заколенник, торчат только пальчики на ноге - для вентиляции. На коленке – вроде дупла, перебинтованного многослойно. Что в том дупле, какой там был прокол – ничего не ясно. Маша выглядела, как будто это ее вставили в эту упаковку, а не наоборот. Она присела на кровать, скорее - условно. Сидеть было очень неудобно, почти невозможно, лежать или стоять – легче. Двигаться с этим «сапогом» было очень трудно, но все же...
И Маша вскоре как-то приспособилась.
Она уже немного очухалась после случившегося, после всех перипетий и объяснений с врачами. Вскоре ее настроение улучшилось.
Правда, все время меня спрашивала:
- Мама, ты хоть узнай, у меня все до конца пройдет или я буду, как утка, переваливаться или на костылях прыгать? И когда пройдет-то?
- Да все я узнаю. Ты хоть смотри, не упади, а то хуже будет!
- Да ты что, я постараюсь!
Как уж там она старалась, когда меня рядом не было, не знаю. Да потом и рассказывала:
- А мы в отделении с другими ребятами играли и хулиганили, когда врачей не было.
- Неужели? И как же это возможно, ведь у каждого - гипс, лангетки или какие-то шины, да и многим лежать нужно?
- Лежать нужно не всегда, а меня сразу и спросили: в футбол с нами играть будешь?
- Ну, какой там может быть футбол, когда ты с ноги на ногу переступать не могла? – изумилась я.
- Да я тоже так подумала, что не смогу, а мне говорят: будешь на воротах стоять, там можно не двигаться!
- Постой, постой… - что-то я не могла взять в толк. - На каких воротах? А где же мяч взять?
- Да какой там мяч? Обычное судно – и здорово оказалось!
- Ничего себе! – я еще не слышала, чтобы так играли в футбол, даже в цирке. - И ведь до этого ж кто-то догадался… Да и где же играть-то?
- Да в коридоре.
- В коридоре, на воротах… И как – стояла?
- Конечно, и даже голы не пропускала!
Вот это да!
Мы до такого в больницах в свое время не додумывались, а я все мои детские больницы помню…
Пролежала Маша всего около месяца.
Когда сняли гипс, стало видно, что опухоль на коленке прошла, но хромота осталась – такую тяжесть приходилось на себе носить! К тому же вся детская фигурка пошла в перекос, что было очень заметно со стороны. Предстояло новое испытание – упражнения для исправления осанки, чтобы исправлять начавшееся искривление позвоночника, не дать развиться сколиозу или чему-то подобному.
Вот так: уши вытащили, так нос увяз…
Обещали, что за год можно будет «обогнать» этот сколиоз. Подолгу сидеть за пианино или за письменным столом не разрешали. А как заниматься – стоя, что ли? Пришлось часто ездить в поликлинику на лечебную физкультуру, на какие-то процедуры, и главное - ждать лета, чтобы можно было плавать. В плаванье – спасение! Плавать-то Маша любила, да только до лета еще долго.
В обеих школах – одни «хвосты»…
Правда, одноклассники часто приходили и в больницу, и домой, подтягивали по программе. Особенно помогали Машины подружки Юля Петрова и Даша Бундакова. Юля однажды привела с собой и Костю Кузьмина – того самого, популярного школьного хулигана, который часто обижал Машу и раньше, а в этот раз так толкнул ее, что чуть не оставил калекой на всю жизнь. Я, конечно же, знала про его прежние «подвиги», о которых Маша рассказывала неохотно, и однажды мне уже приходилось разбираться с ним основательно. Даже домой к нему ходила, разговаривала с его родителями, не по этому поводу, а год назад, так что фамилию эту я не забыла.
Да видно, плохо я с ним тогда разобралась.
И все-таки, на этот раз Костя серьезно попросил прощения и впоследствии уже не трогал Машеньку. Маша потом призналась мне, что, когда упала, не хотела никому говорить об этом, а особенно – жаловаться учительнице. Ведь если бы она тогда выдала Костю классной руководительнице, то его бы уж точно из школы выгнали – за это и за другие хулиганские проделки.
Ничего хорошего из этого для него бы не вышло...
Пожалела она его.
Ну, что тут скажешь?
 Это произошло, когда Маша училась в третьем классе – и в общеобразовательной, и в музыкальной школе. Был конец февраля 1986 года, в музыкальной школе готовили отчетный концерт за первое полугодие. Получилось так, что дня за два до концерта а я сильно простыла; чувствую, что не поправляюсь, а наоборот – все развозит и развозит. И в день концерта точно понимаю: из дома выйти не смогу. Я никогда раньше ни под каким видом не отпускала Машу далеко и одну, хотя накладки случались, конечно. В музыкальную школу возила ее - туда и обратно - уже третий год. До музыкальной школы путь простой, но не близкий. Ехать в Тушинскую музыкальную школу от нашего дома удобно только на шестом трамвае. Примерной езды - полчаса: от улицы Героев-панфиловцев до Тушинского исполкома, рядом с которым и находится здание семнадцатой музыкальной школы.
Это произошло, когда Маша училась в третьем классе – и в общеобразовательной, и в музыкальной школе. Был конец февраля 1986 года, в музыкальной школе готовили отчетный концерт за первое полугодие. Получилось так, что дня за два до концерта а я сильно простыла; чувствую, что не поправляюсь, а наоборот – все развозит и развозит. И в день концерта точно понимаю: из дома выйти не смогу. Я никогда раньше ни под каким видом не отпускала Машу далеко и одну, хотя накладки случались, конечно. В музыкальную школу возила ее - туда и обратно - уже третий год. До музыкальной школы путь простой, но не близкий. Ехать в Тушинскую музыкальную школу от нашего дома удобно только на шестом трамвае. Примерной езды - полчаса: от улицы Героев-панфиловцев до Тушинского исполкома, рядом с которым и находится здание семнадцатой музыкальной школы.
Как быть? Концерт – вот уже скоро, буквально, через два часа. Отпустить ребенка одного в такую дальнюю дорогу с бухты-барахты я не решалась… До последней минуты я искала варианты и не находила, с кем можно отправить Машу. Звонила Инне Шакировой, которая жила в соседнем доме, училась на класс старше у нашей же учительницы Оделии Харитоновны и принимала участие в том же концерте. Хотела договориться с ее мамой, чтобы та в порядке исключения взяла с собой Машеньку, а потом привезла ее вместе с Инной. Нет, телефон не отвечал, видимо, все ушли. Что делать? А время идет… У меня температура, слабость… Голова идет кругом.
Эх, не рассчитала я свои силы!
Маша почти ревет, говорит, что остаться дома ей нельзя, ведь она всех подведет. Да все понятно. Я приняла решение:
- Машенька, ты поедешь одна. Дорогу ты знаешь. Я прослежу твой путь до трамвая из окна. Когда ты сядешь – я увижу. Когда сойдешь, аккуратно переходи дорогу перед исполкомом. Отпускаю с условием, что в музыкальной школе тут же, перед концертом, найдешь Инну и ее маму, все объяснишь. Назад приедешь только с ними. Поняла?
- Ой, мамочка, все поняла. Давай, буду скорее одеваться, а то опаздываю!
…Оделась быстро, взяла «музыкальный» красненький портфельчик, и вот уже вижу, как моя самостоятельная пианистка в синеньком клетчатом пальтишке и пуховой серенькой шапочке спешит по натоптанной тропинке к трамвайной остановке, что как раз напротив окна. Движение машин у нас на улице – довольно тихое. Маша перешла неширокую дорогу, подошел трамвай. Она села и уехала. Так, этот этап пройден. Был час дня, концерт – в три, значит, вернуться она должна примерно часов в шесть. Я очень жалела, что некуда позвонить учительнице, Оделии Харитоновне: в школе ее искать не будут, а домой нужно было звонить еще вчера вечером, чтобы предупредить заранее. Вчера-то я и не думала, что мне будет так плохо сегодня!
Да и что толку теперь…
Совесть моя меня загрызла. Никакие пилюли мне были не в прок. Вспоминались страшные случаи, происшедшие недавно с детьми в нашем районе – не дай Бог… На работу Володе я не могла дозвониться и также жалела, что утром не предусмотрела всего этого: понадеялась на себя, а зря. Дежурный отвечал, что Владимир Михайлович на выезде. Время шло, и те шесть часов вечера, которые сторожили меня, пробили время тревоги. За окном опускался сумрак. Нет, что-то явно не так... Полчаса еще можно подождать, а там... Прошло и полчаса. Никого и ничего слышно не было. Очень хотелось просто прилечь, но я даже присесть не могла - от волнения. Кто-то позвонил некстати, я переговорила коротко. Вдруг – опять телефонный звонок. Хватаю трубку:
- Мамочка, это я.
- Машенька, где же ты?
- Мама, тут очень плохо слышно и трубка холодная.
- Где ты?
- Я... в телефонной будке.
- Где?
- Напротив исполкома. Трамваи не ходят, и хоть скажи, какой у нас номер автобуса, который идет к нашей булочной на Туристской улице?
- …Машенька… Номер девяносто шестой, помнишь такой?
- Нет. А где же я тут его найду?
- Ах ты… Спроси – скажут. Остановка – рядом с трамвайной. Да, спрашивай у старушек, каких не страшно. И когда сядешь в автобус, ни с кем не разговаривай, сядь поближе к водителю, хорошо? Ты хоть вспомни, что девяносто шестой автобус делает у булочной последнюю остановку, там у него круг, и все выходят. Ладно?
- Ой, ладно…
Ну, все! Такого я не ожидала, а ведь вполне могла предположить. Слов нет пересказать, как я ждала ребенка, не отрываясь от кухонного окна, из которого на меня дуло во все щели. Правда, платком прикрылась… Стало уже не только темно. Стало – почти беспросветно, и уличные фонари тускло пробивали темноту зимнего вечера. Трамваи, и в самом деле, не шли, а автобус из окна увидеть нельзя, его остановка – далеко. Господи, помоги… Какие-то люди группами и в одиночку шли по направлению от дороги к нашему дому, чтобы пройти через нашу арку в другие дворы, к другим домам. Эта арка – чуть ли не под нашим балконом, так что хорошо видно всех идущих. Шли какие-то дети. Нет, Машеньки с ними не было. Я себя мысленно уничтожала… Потушила свет, чтобы лучше видеть. Долго все было без изменений. Прошла еще одна толпа… Вдруг, к счастью, вижу, как позади всех – по размытой тропке - катится мой темно-синий маленький комочек со знакомым портфельчиком-маячком.
Наконец-то! Слава Богу…
Открываю дверь, обнимаю ребенка. Раздеваю, реву в три ручья.
- Мама, перестань же!
- Маша, ну что же ты с Инной не приехала, как мы и договаривались?
- Мамочка, я забыла подойти к ним вовремя, а когда вспомнила после концерта, было уже поздно - они уехали…
- Так с кем-то другим бы поехала, с кем в нашу сторону по пути, хотя бы до половины дороги!
- Я всех пропустила почему-то…
Я раздевала ее, но никак не могла прийти в себя.
- Ну что, сильно испугалась? – все спрашивала я.
- Да не очень, просто на автобусе мы с тобой ни разу не ехали.
- Нормально было в автобусе-то?
- Да так, ничего, пассажиров было мало. Ребята какие-то ехали, вроде, кто-то из нашего дома, но я уже не решалась к ним и подходить.
Даже про концерт я спросила в последнюю очередь, да тут же и снова подумала, что ни в коем случае не нужно было отпускать ребенка в одиночку. Накормила, напоила, но успокоиться долго не могла. Володя вернулся домой очень поздно и, когда узнал про наши «концерты», чрезвычайно расстроился. В первую минуту был просто шокирован: как я могла так поступить? Кому нужен такой концерт и вся эта самодеятельность?
Зато Маша быстро успела освоиться в новом качестве, почувствовала себя героиней и сказала:
- А теперь-то уж меня можно запросто отпускать одну – хоть куда, даже к бабушке Зое на Кропоткинскую! Я все дороги к дому изучила!
 Уже через несколько лет я записала эту неприятную историю начала лета 198З года, когда мои родители ездили в Крым с внуками Романом и Машей. Тогда Роману исполнилось шесть лет, а Маше - семь. Дедушка с бабушкой решили оздоровить внуков – и все бы замечательно, но... Был конец мая, и Маша как раз сдавала вступительные экзамены в музыкальную школу. Она успела пройти первый тур, а второй – только собиралась. А тут как раз из Новгорода Великого приехали на своей «оранжевой машине» дедушка с бабушкой, да еще и с Ромочкой. Приехали специально за Машей, так что не отдать им ребенка было нельзя. Они бы этого просто не поняли. А Маша была и рада, что никакие «туры» проходить больше не надо, что скоро увидит море, будет купаться и все прочее. Через три дня они уже добрались до места, в те самые Дальние Камыши, в окрестностях Феодосии, которые нашей семье так пришлись по душе.
Уже через несколько лет я записала эту неприятную историю начала лета 198З года, когда мои родители ездили в Крым с внуками Романом и Машей. Тогда Роману исполнилось шесть лет, а Маше - семь. Дедушка с бабушкой решили оздоровить внуков – и все бы замечательно, но... Был конец мая, и Маша как раз сдавала вступительные экзамены в музыкальную школу. Она успела пройти первый тур, а второй – только собиралась. А тут как раз из Новгорода Великого приехали на своей «оранжевой машине» дедушка с бабушкой, да еще и с Ромочкой. Приехали специально за Машей, так что не отдать им ребенка было нельзя. Они бы этого просто не поняли. А Маша была и рада, что никакие «туры» проходить больше не надо, что скоро увидит море, будет купаться и все прочее. Через три дня они уже добрались до места, в те самые Дальние Камыши, в окрестностях Феодосии, которые нашей семье так пришлись по душе.
Я сразу очень переживала, что Маша «пролетает» мимо поступления в музыкальную школу. Потом не однажды говорила:
- Машенька, да нам всем просто повезло, что тебя осенью взяли в музыкальную школу без второго тура! А так прокаталась бы на море, да год бы потеряла. Удивляюсь моим родителям, как это они могли так недальновидно поступить, ведь я просила их ехать позже, да они меня не слушали…
- Мама, а ты знаешь, что бабушка говорила? Что такую способную девочку и так возьмут. В Новгородской музыкальной школе – точно взяли бы. Представляешь? Так они с дедушкой даже и не удивились, что меня и в самом деле приняли, хотя половину экзаменов я не сдавала.
- Да, это на моих родителей не очень похоже, ведь меня они воспитывали в строгости, и чтобы вместо учебы было гуляние - ни-ни! Значит, ты-то уже теперь оценила, как вам с Ромочкой повезло? А ведь вели-то вы себя там не очень хорошо, как мне помнится…
Уже в который раз мы вспоминали прошедшее лето, и я давно чувствовала, что Маша спотыкается на каких-то моментах своих воспоминаний. А в этот раз она сразу сникла, явно припомнив что-то серьезное:
- Мама, знаешь… Хоть и давно все это было, но я все помню. Мы, конечно, не очень-то хулиганили, но иногда… - она посмотрела на меня испытующе. - Только ты не ругайся!
- Значит, мне далеко не все известно про ваш отдых? – заинтересовалась я. - Ну, давай рассказывай, чтобы я не переспрашивала дедушку с бабушкой по междугороднему телефону!
- Ну, что рассказывать… - чувствовалось, что ей хочется высказаться, потому что совесть покоя не дает. - Ну, купаться бегали иногда без разрешения… Ну, однажды я в огороде в грязную канаву провалилась – нечаянно, так меня потом из шланга всем двором отмывали, да про это я уже говорила тебе… Ну, за котами гонялись, ну, фрукты немытые ели, ну, всякие другие фокусы устраивали…
- Про другие – рассказывай! – настаивала я.
- Мама, только не ругайся, потому что дедушка нас за это так потом лупил – ужас! – предупредила она, умоляюще глядя на меня.
- За что – за это?
- Мам, ведь мы однажды деньги у дедушки стащили, чтоб на каруселях покататься.
- Ничего себе! – у меня не хватало слов…
- Нет, понимаешь, это мы от отчаяния.
- Как это?
- А так. Мы не виноваты. Мы сто раз просили дедушку с бабушкой, чтобы они нас покатали на качелях, на каруселях - и на всяком остальном в Луна-парке. Мы почти каждый день ездили на машине мимо этого парка то на рынок, то по каким-то взрослым делам, и дедушка говорил, что времени нет, что в другой раз. И мы видим уже, что скоро уезжать, а мы так и не попадаем туда. Ужасно обидно! Вот мы и решили… аккуратно взять немного денег из кошелька у дедушки – на время.
- На какое время? Как это – взять без спроса?
- Ты просто не понимаешь… Ну, мы потом хотели признаться. Ты не представляешь! Луна-парк – близко, сразу за поворотом на поселок Приморский, возле бара. И мы думали: быстро сбегаем – и вернемся, никто и не заметит.
- То есть взяли деньги, потихоньку ушли…
- Нет. Взяли деньги вечером, а утром, когда во дворе все шумели и галдели, мы сказали, что прогуляемся быстренько на море и вернемся. А на море нас иногда одних пускали, если ненадолго. Так мы и побежали в Луна-парк. Нет, ты даже не представляешь, как там было здорово! Мы просто душу отвели, бегали от одного аттракциона к другому, прямо…
- Прямо вроде как в жизни ничего подобного не видели! А как же вам билеты продавали? Неужели никто не поинтересовался, откуда у детей деньги?
- Очень даже поинтересовались, и не просто, откуда деньги, а откуда такие большие деньги! Ну, про деньги-то еще ладно. Спрашивали, почему мы одни без взрослых? Но мы чего-то там наплели-насочиняли, особенно я.
- Какой ужас!
- Это еще не ужас, а весь ужас был потом. Когда мы уже везде покатались и все посмотрели, осталось одно «Колесо обозрения», самое лучшее, что там было. Мы уже спешили, чтобы нас не хватились, и решили, что после этого – сразу же пулей бежим домой! Вот тут-то… А ведь как же было красиво смотреть на море, на горы, на весь берег – так отлично было видно с высоты! Почти как в кино! Или как с вертолета! Но когда уже спускались на землю – в самом низу, и осталось только сойти, «Колесо» немного задержалось на маленькой высоте. Тут мы вдруг видим, что перед нами стоит… дедушка и уже прямо приготовил ремень! И сбежать никуда нельзя.
- Да… Какой ужас!
- Вот уж точно ужас, на глазах у всех… Народу – кошмар, как много вокруг. Ты даже не вообразишь, что было дальше. Дедушка нас привел домой и наказал капитально. А бабушка сказала, что она и представить себе не могла, чтобы мы окажемся способными на такое нечестное дело. Сказали, что больше никогда нас с собой не возьмут. Сказали, что, в первую очередь, виновата я, потому что старшая. Теперь велели: со двора - ни ногой. Мы с Ромой уже и пожалели, что так поступили.
- Не понимаю, почему же нам с Володей дедушка с бабушкой ничего не рассказали? Вообще – много говорили, но про этот случай – точно не рассказали.
- Мам, да ты пойми, нам здорово досталось. Ведь мы и так были жутко наказаны. Переживали. Думали, что дедушка нас вообще никогда не простит. На другое утро я и думать не думала ни о чем хорошем, а Рома вообще говорил, что нам море уже «не светит». Мы уже приготовились «скиснуть» во дворе. И – представляешь? Дедушка скомандовал: быстро завтракать – и все на пляж! Простил, значит. А бабушка еще и вкусно так накормила… А ведь мы того не стоили!
- Ах, вы, безобразники! Ведь вас точно нельзя было отпускать в такую даль и с таким непослушанием. И эти деньги, и сами приготовления к похищению… Не знаю, как это и назвать! Меня с детства приучили к жесткой мысли: чужого брать нельзя. Так что же, я тебя приучала к другому?
- Да ладно уж, мам, все и так понятно. Уже давно все обсудили, и детей простили, и взрослые успокоились. И урок нам был хороший.
- Надолго ли?
- Ой, не знаю. То есть знаю, не беспокойся… Только тогда мы с Ромой поняли, что нас все же любят, несмотря ни на что, всегда прощают, и даже если наказывают, так за дело. А плохого нам - никогда не хотят!
…Закончив рассказ, Маша вздохнула с облегчением и спросила:
- А папе… нужно об этом рассказывать?
- На твое усмотрение, - ответила я.
Так до сих пор и не знаю, рассказала она ему или нет.
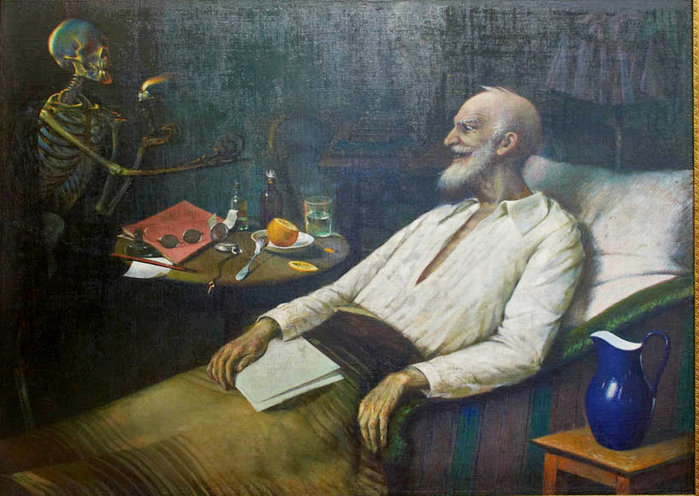 …Не так-то сразу и уйти
…Не так-то сразу и уйти
Придется из земного мира
К садам небесного эфира,
К долинам звездного пути…
Старик жил высоко в горах, жил так давно, что и потерял счет годам. До подножья гор его проводили дети, когда он состарился: сам же и просил – не хотел им мешать… Подумал, что слишком долго ждать смерти не придется, но все-таки взял с собой самое необходимое на первый случай. Дети остались в долине, где жили всегда, а Старик поднялся туда, куда людей еще не заносило. Поднимался не один день, а каждый день – понемногу, и наконец остановил себя: выше – уже некуда. Облюбовал углубление высокого каменистого выступа, да и обосновался там. Оказалось, жить можно – густая стена вьющихся растений надежно укрывала от дождей и холодов. Знал, что самое главное в его положении – уметь разводить и поддерживать огонь, и этому научился довольно скоро: пригодилась старая сноровка. Одежды, как ни странно, ему хватало, и даже с обувью пока было все в порядке.
В остальном – все оказалось проще.
По крутым бокам скалы стекала дождевая вода, и Старик собирал ее в высушенные фляги из тыквы. На уступе за скалой он развел маленький огород, где выращивал овощи, трудясь потихоньку, когда был в состоянии. Звери поначалу испугались человека, а потом поняли, что это ему впору бояться их. Они распознали в нем почти равного себе, почувствовали, что не причинит им вреда, – и приблизились к нему. Он их не оттолкнул, подружился с ними, ласкал их детенышей. Звери приносили ему еду: корнеплоды, мед, орехи, фрукты. Птицы сначала дивились тому, что человек живет там, где они сами гнезд не вили, но потом стали прилетать к нему со своими птенцами и приносить ягоды на веточках.
Проходили дни и недели; Старик жил и ждал смерти, а она все не приходила. Тогда Старик приучился к медлительной жизни, да и привык к ней настолько, что будто другого не знал никогда. Привык и к этим горам. Старик был тихим и смирным, и природа гор все больше располагалась к нему, а он, в свою очередь, все более приспосабливался к горам. Глядя на животных и насекомых, сам научился находить нужные растения, засушивать травы и коренья, приготавливать отвары – так он лечился при необходимости. Научился помогать зверям и птицам, лечить их. Любил подолгу прогуливаться по окрестностям, прислушивался к ритму незнакомой ранее Жизни, дивясь тому новому, что узнавал о горах, о жизни животных и растений, – ведь дожил до глубокой старости, а о настоящем только догадывался – там, внизу, а здесь…
Здесь все было настоящим. Привольно и отрадно было!
Он никогда не намеревался спускаться вниз, но часто засматривался наверх, от чего захватывало дух! Чтобы выживать, приучился выполнять самые простые правила, которые и придумывать не пришлось, они сами «просились» быть исполненными. Привык им следовать, ничего не менял в ежедневном распорядке: и сил на большее не хватало, и настроения не было, и ничего другого искать не хотел. Он был очень, очень старым, и ему самому иногда казалось удивительным, что он как-то существовал: жив – и хорошо.
Слабость порой одолевала, валила с ног, побеждая все обретенные привычки и правила… Иногда неделями чувствовал себя особенно нехорошо – лежал, не высовываясь из своего теплого укрытия. Тогда лисицы и козы сами наведывались к нему, лечили его, и он постепенно вставал на ноги, а потом долечивался сам. Так случалось несколько раз, и Старику казалось, что уже не поднимется, но всякий раз Жизнь опять давала новые соки, укрепляющие силы Старика.
Время шло…
Прошли короткие месяцы и долгие годы.
Однажды, поздним утром, Старик собрался с духом, преодолевая недомогание, и попробовал подняться со своей лежанки, выстланной примятым хворостом и сухими листьями, да не смог почему-то. Удивился, попытался еще раз – опять не получилось. Его словно придавило огромным, бесформенным валуном. А-а-а… Не открывая глаза, почувствовал присутствие поблизости какого-то неприятного существа, которого он еще не знал. Заставил себя открыть глаза, видит, рядом с ним сидит кто-то, пришедший издалека, и неясная догадка прибавила ему смелости.
Он спросил, проверяя, есть еще у него голос:
– Кто ты и откуда?
– Да я это, я, старче, не узнал? – отвечала закутанная в темное фигура, опирающаяся на крепкий, но весьма изящный посох. Это была узнаваемая фигура женщины! А-а-а… Откидывая покрывало со своего лица, женщина усмехнулась и произнесла:
– Я – твоя Смерть, пришла за тобой. Не ждал, что ли?
Старик попытался медленно подняться – будто с неимоверным трудом отпихивая в сторону огромный валун. Спустил ноги на каменный пол, засыпанный пучками сухой травы. Посидел… А-а-а… Взглянул на гостью, совсем не страшную на вид, а скорее печальную: неужели вот так она и приходит? Правда, ее лицо он рассмотрел плохо…
Ответил:
– Пожалуйста, я готов.
– Как, ты даже не просишь меня повременить? – удивилась Смерть. – Все хотят, чтобы я пришла как можно позже, никто не ждет меня с радостью. Даже лежащие на моем, на смертном, одре надеются на Жизнь, умоляют о ней. Некоторые пытаются от меня убежать, другие – откупиться, третьи – победить меня. Вижу, ты – не таков.
– А я уже пожил там, внизу, – махнул куда-то рукой Старик. – Все знаю, что ты говоришь о людях. Пожил я и здесь, наверху. Знал бы, что здесь так хорошо – может, давно бы сам поднялся сюда или еще куда… Но недосуг было задуматься об этом в молодости, да и потом… Там меня одолевали другие заботы. Когда умерла моя жена, я взял и попросил, чтобы меня переправили сюда.
– Зачем? – заинтересовалась Смерть.
– Затем, чтобы отсрочить твой приход. Моя жена умирала тяжело, болела несколько лет… Просила, чтобы я пожил еще, протянул подольше. Вот я и решил… Но теперь, видно, отложить ничего уже нельзя.
– И у тебя нет никакого последнего желания? – спросила Смерть.
– Есть, – ответил Старик. – Мне хотелось бы на прощание посидеть немного на любимом уступе, на обрыве моего «дворика жизни». Я там провожу по нескольку часов в день, предаваясь размышлениям о прошлом и настоящем. Разреши мне в последний раз... Не возражаешь?
– Конечно, – согласилась Смерть. – А ты не стал бы возражать, чтобы я посидела с тобой рядом?
– Ты меня удивляешь, – ответил Старик. – Ты пришла как хозяйка, тебе и распоряжаться…
Они прошли вдоль отвесной скалы. Смерть спрятала свое жало и мысленно поддерживала Старика, чтобы он не упал, не спотыкался. Пока шли, Смерть крепко опиралась на свой посох, наклоняясь и словно прислушиваясь к нему. Вдвоем, как лучшие друзья, добрались до «дворика жизни», сели на уступ, полюбившийся Старику. День был в разгаре, и было обидно умирать – при одном только взгляде на ту красоту, которая радовала его взоры каждый день.
Взирая на то же самое, Смерть спросила:
– Скажи, Старик, а тебе не жалко расставаться с Жизнью?
– Жалко, иногда бывает жалко, но... что такое Жизнь, я уже знаю, а что такое Смерть – еще нет, – произнес Старик. – Я тут живу долго и понял: всему бывает свой черед. Так заведено в природе: все, что родилось, должно прожить отпущенный срок и умереть когда-то. Разве растения и животные не умирают? Умирают и никогда не бегают от своей смерти. Так и я… Пора моей Жизни прошла, пора Смерти, то есть твоя, наступила. Как я могу этому возразить?
Смерть тихо отодвинулась в сторону. Помолчав, сказала:
– Я знаю, что ты терпеливый и не злобный, вижу, что набрался мудрости Жизни, поэтому хочу спросить… Удивляюсь, почему меня все так не любят, желают отдалить, избежать, обмануть, а ведь я приношу только облегчение, освобождение от оков страданий! Да, да, используют любые приемы и уловки – бегут стремглав, лишь бы вырвать себе кусочек Жизни! Почему? Для чего?
Старик вздохнул и произнес:
– Люди привыкли считать свое существование на свете бесценным, настраивают себя и своих детей только на Жизнь, а не на Смерть. Никто не хочет умирать молодым или больным, или старым. И потом – они боятся неизвестности! Люди хотят жить и жить без конца, насыщаться радостями Жизни, но почти никогда и не делают того, чтобы Смерть… чтобы Смерть не спешила стремглав к ним или к их детям.
– О, как справедливы твои слова! – воскликнула Смерть, стукнув по каменистой земле своим посохом – и земля покачнулась, листья с деревьев мгновенно осыпались, облака замерли в воздухе. – Я знаю о людях все, не жду новостей о них. Но ты меня смутил, настроил на твою Жизнь! Что-то в ней есть… О-о-о… Посидим еще чуть-чуть. Как люди не понимают: я не могу стать чем-то другим, чем являюсь на самом деле! Это люди могли бы, как ты сказал… А они! Болтаются по Жизни без толку, загоняют себя в жуткие дебри, в яму, в болото, – Смерть посмотрела на Старика – …Меня не боятся должным образом, что странно.
Старик вздохнул, погладил рукой траву, ощущая ее прохладу, сорвал несколько ягод, съел их. Закрыв глаза, ждал… Попросил:
– Посидим еще чуть-чуть, если не возражаешь.
Смерть, поигрывая своим посохом, сказала:
– Старик, знаешь, что? Я теперь спешу, у меня много дел, и все – неотложные. Вот что. Не буду торопиться с тобой, хотя повторов не люблю. Вижу, что Жизнь не затопила, не искалечила тебя болью и одиночеством, тебе не страшно умирать. Оставляю тебя на этот раз; вернусь, когда захочу, как, случается, являюсь не однажды и к некоторым другим. Ты, вижу, удивлен? Да, я умею приходить по нескольку раз, но такое бывает очень редко. Что скажешь?
Старик нечаянно дотронулся до посоха Смерти – холод моментально сковал его пальцы. Он отдернул руку и сказал:
– Ты – моя гостья, первая гостья – здесь, в горах... Да еще какая! Ты всемогуща. Как я могу тебе отказать? Твое право – твое намерение. Приходи, когда захочешь. Как видишь, я сумел так настроить свою Жизнь, что каждую минуту готов к твоему приходу.
– До свидания. Будь здоров, Старик!
Старик не успел ответить ей, как она исчезла, растаяла в воздухе; дольше всего таял ее посох… Он огляделся – никого! Думал, что не сможет оторваться от края обрыва: на протяжении всего разговора чувствовал, как медленно сползает в пропасть. И вдруг неожиданно обнаружил, что может подняться на ноги. Ну-ка, ну-ка... Поднявшись, отошел подальше в сторону, сел на теплый камень, успевший согреться от лучей солнца – только что выглянувшего из-за тучки… Недолго посидел, растирая затекшие ноги, обдумывая случившееся. Чувствовал, что сил его хватит, чтобы дойти до дома. После, к вечеру, доделав некоторые дела, запущенные во время болезни, еще раз пришел сюда, на «дворик жизни». Верить или не верить тому, что было?
Время шло…
Прошли короткие месяцы и долгие годы.
Однажды, ближе к вечеру, Старик из последних сил работал на маленькой делянке – думал: успеть бы до ночи управиться. С утра давило сердце, и он трудился, превозмогая боль. Поправляя грядки, вдруг почувствовал, что сердце словно обрывается, катится вниз, в пропасть, на край того обрыва… Он только успел бросить мотыгу и прилечь на кучу свежих сорняков, как начался сильный дождь. «Наверное, это конец», – подумал Старик, даже не стараясь прикрыть себя лопухами, которые услужливо подставляли ему свои зеленые зонты.
– Старче, ты не узнал меня? – произнес чей-то знакомый голос, заглушивший шум дождя, переходящего в грозу. Лежа, не открывая глаз, Старик заметил уже знакомую, закутанную в темное фигуру Смерти, опиравшуюся на тот же крепкий посох. Старик с облегчением вздохнул, не произнося вслух ни слова: наконец-то!
– Так ты меня ждал! – воскликнула Смерть радостно. Она прикрыла Старика своим покрывалом, и ему стало мирно и покойно, боль отступала на дальний край разверзшейся пропасти, за границу мироздания.
Но Смерть не спешила к своему торжеству. Спросила:
– Ну, как тебе, старче?
Старику сначала не хотелось отвечать, но через минуту он скорее почувствовал, чем увидел, что полусидит-полулежит под маленьким навесом, который недавно пристроил к скале возле невысокого дерева. Дождь поливал огород, и было слышно, как где-то вдалеке барабанил град.
Посох Смерти маячил прямо перед глазами. Смерть проговорила:
– Вижу, вижу, ты уже тяготишься Жизнью, потому что лет тебе немало. Ты хоть знаешь – сколько?
Старик ответил, слабо соображая, то ли говорит:
– Не помню, забыл…
Смерть усмехнулась и спросила:
– А как тебя зовут, помнишь?
Старик попытался напрячь свою и без того уставшую память:
– Как зовут… Как звали… Когда-то помнил…
Смерть засмеялась дробно:
– Мало кто из людей так удивил меня! Мало кто из людей так мне покорился. Мало кто из людей так меня ждет…
Старик почувствовал некоторое облегчение, сел поудобнее, ослабил стеснение ветхой одежды. Дождь уже перестал, мир наполнялся гомоном птиц, рычанием зверья, теплом жизни. Зачем ему – Жизнь? Смерть присела рядом, предусмотрительно отодвинув свой посох подальше.
– Ты, небось, устала? – спросил Старик.
– Нет, я никогда не устаю. Без меня не будет движения Жизни, как это принято понимать. Жизнь неустанна, а я спешу вслед за ней. Законы пространства и времени – законы истинные. Законы материи и духа скреплены договором между Жизнью и Смертью. Мы – не соперницы, нет, мы – единое целое: там, где больше пространства захватывает Жизнь, там меньше места остается для Смерти, понимаешь?
Подумав немного, Старик спросил:
– Тогда, если, например, Жизнь займет все пространство, весь, так сказать, позволительный объем, тогда… тогда она просто потеснит Смерть, а может, и вытеснит ее – навсегда?! Вы так договорились?
Смерть с сочувствием посмотрела на него:
– Ты догадлив, старче. Только вытеснить меня не удастся никогда, это ясно, как день Жизни или ночь Смерти. Чтобы это произошло, надо, чтобы… люди, развиваясь и мужая в поступках, в своих мыслях – не спускались душой до уровня богадельни, а… возвышались до горных вершин, как это сумел сделать ты, старче.
Старик окончательно пришел в себя, осмелел:
– Да, сначала я просил, даже настаивал, чтобы дети отдали меня в богадельню, но они отказывались, выполняя свой долг передо мной. В богадельне долго не живут, ты же знаешь...
Смерть с укоризной посмотрела на него:
– Мог бы и не говорить, богадельня – это мое царство, там я не прихожу дважды к каждому из предназначенных мне. Там – я желанная избавительница, и довольно об этом. Вот тут, в твоем мире, то есть в мире, созданном тобой, мне удивительно легко потесниться, уступая малое место твоей Жизни – еще на некоторое время.
– Да, я сам захотел сюда, забрался на кручу, понимая, что назад, в долину людей, не спущусь никогда, – Старик нахмурился, вспоминая о жизни в долине. – Забрался так высоко, как только сил хватило. Пока поднимался наверх (не один день – а с передышками!), каждый раз думал, что не дойду… до следующей вершины… Встречал все новые и новые формы Жизни – и удивлялся... – Он помолчал. – Интересно, как тебя встречают животные и растения?
– Серьезный ты, старче, человек… – отвечала Смерть. – Растения – легко, у них нет сил и возможностей противостоять моей воле. Животные – напрягаются, препятствуют мне, следуя инстинкту выживания. Люди же, получившие Жизнь, осознавшие ее достоинства и прелести или испытавшие горечь бездушия и лицемерия, не видят во мне итог своего существования. Они не готовят себя к встрече со мной. – Смерть тихонько засмеялась… – Вот ты сумел подняться… вверх, в горы, подтянул тело к обиталищу души, к небу, к чистоте духа, к Смерти! Диву даюсь: философам, монархам и падишахам далеко до тебя...
Старик закрыл глаза, молча слушал голос Смерти, почти не удивляясь тому, что она заинтересовалась тем простым, тем обыкновенным, что для него самого обнаружилось только здесь, да и не так давно – если сравнивать со всей его Жизнью. Глаз долго не открывал, а когда открыл, увидел, что они сидят вдвоем на краю обрыва, возле «дворика жизни», точно так же, как… в прошлый раз. Как ни странно, силы у него, и в самом деле, почему-то стали прибывать, но обманывать себя было нелепо.
Он расслабился и смиренно ожидал своей участи.
Смерть посмотрела на него в упор, почти лишая его сил, продолжила:
– И вот что скажу тебе: теперь я хочу повременить снова. Так хочу! Не принимаю твоего отказа, который, вижу, готов уже сорваться с языка. Он меня мало интересуют. Оставляю свои сегодняшние намерения, отложу их на некоторое время.
Смерть подхватила посох, встала во весь рост.
– До свидания. Будь здоров, Старик. Не жди меня особенно скоро!
Старик опять ничего не успел ответить ей – как она исчезла, растаяла в воздухе; дольше всего таял посох… Он сначала провалился куда-то, потом обрел сознание, огляделся вокруг и понял, что опять полусидит-полулежит под маленьким навесом. Немного подождав, все же поднялся, хотя и с трудом. Отряхнулся, подобрал несколько клубней земляного картофеля; направился было к «дворику жизни», да передумал по дороге, раз уж сама Смерть отодвинула его от того края, что так тянул к себе... Остановившись, долго еще смотрел на высокие, в фиолетовой дымке, вершины далеких гор, куда ему ни за что не подняться – при всем его желании!
Время шло…
Прошли короткие месяцы и долгие годы.
Однажды ближе к вечеру Старик укрывал от наступающих холодов три кустика неописуемо красивых роз. Он давно ухаживал за ними: розы были какого-то необычного сорта, и только-только привыкли к осенней погоде. Старик размышлял о том, что на будущий год нужно… И вдруг… словно лишился всех сил – рухнул ничком прямо на эти розы. Падая, и раня себя их шипами, но почти не чувствуя боли, он попытался хотя бы отклониться в сторону, чтобы причинить кусту как можно меньше вреда: кто же будет ухаживать за ними потом, когда он…
Не может быть, чтобы она так долго не приходила!
А она… Она давно пришла и стояла рядом. Не спешила, но и оттягивать долее не хотела – на этот раз: стояла, опираясь на посох двумя руками, словно ставя точку – в знак равновесия Жизни и Смерти, заключенного в природе.
– Старик, твоя душа слишком чиста, и ты достоин того, чтобы никогда не умирать, а жить бесконечно! – произнесла Смерть с некоторым сожалением.
– Нет, нет… – язык Старика еще помнил какие-то человеческие слова, хотя десятилетиями ему приходилось разговаривать только с животными и растениями. – Нет, такого не может быть достоин ни один человек. Не тяни, не задерживайся, у тебя еще много дел.
Тогда Смерть сказала степенно:
– Старик! Я успела полюбить тебя... Не буду тебя мучить, но прошу, выполни и ты мое последнее желание.
– Какое? – едва выговорил Старик.
– Пожалуйста, пойдем посидим на краю твоего обрыва, я уже так привыкла к нему и к тебе, что не могу отвыкнуть сразу. И вообще, зная тебя, не хочу нарушать твой ритуал прощания с Жизнью.
– Хорошо, – почти беззвучно прошептал Старик, уже не пытаясь вытирать кровь, сочащуюся из ранок от шипов, струйками бегущую по лицу и напоминающую ему о Жизни.
…Они долго сидели на любимом месте Старика, вместе созерцая, чем Жизнь питала его последние годы – ночная тьма была прозрачной и не мешала им. Уже забрезжил ранний рассвет… Старику стало хорошо и покойно; он не чувствовал ничего: ни боли, ни холода, ни сожалений.
Мир отодвигался все дальше от него, охраняя свою Жизнь.
На ближние уступы скал выбрались из глухих урочищ звери.
Высоко в небесах парили птицы, некоторые садились на камни – рядом со Стариком, но подальше от Смерти.
Чего-то не хватало…
И Старик вдруг припомнил то, что никогда не забывал: как пахнут, как выглядят рыбы и морские животные, живущие в глубинных водах; вспомнил, как часто жалел, что не сможет плавать рядом с ними, тосковал о них.
Смерть спешила…
Уходящая вслед за Смертью мысль Старика последним своим движением походила на резвую морскую рыбку, которая юркнула между скалами в свободный проток воды, скрываясь от настигающей ее темноты…
Смерть бережно взяла душу Старика и предала ее безбрежным водам Вечности, с которой у Жизни и Смерти были свои, не поддающиеся никакой человеческой логике отношения…
* * *
Время для других людей шло и шло...
Проходили долгие годы и наступали короткие месяцы.
 Этот трельяж я запомнила надолго…
Этот трельяж я запомнила надолго…
Когда мы переехали в новую квартиру в Тушино осенью 1980 года, пришлось обустраиваться заново и покупать кое-что из мебели. Наша старая мебель была очень простой, купленной хаотически, далеко не новой. Мебель переездов не любит, и кое-что мы оставили на старой квартире, вернее, старым соседям. Зато наше изумительное пианино марки «Заря» переживало уже не первый переезд, не теряя качества звука и настройки. Знало, что вскоре пригодится ребенку!
Тогда все вообще было трудно достать, и мебель – в том числе. Нужны были какие-то очереди и записи, чтобы получить талоны или попасть в особые списки на мебельный гарнитур, а то и на отдельные предметы мебели. Можно было месяцами в тех очередях стоять, в тех списках отмечаться; а лучше - на работе попасть в милость начальству, которое распределяло все эти блага. Случалось, люди и сами доставали кое-что. Помню, что Владимиру Михайловичу товарищи помогли купить мебельную стенку в комнату к Машеньке. Новую же кухонную мебель мне удалось купить в мебельном магазине возле моей работы – совершенно случайно.
А все остальное брали, откуда придется.
Но, наконец, все старое и новое уже было расставлено по местам. Осталось купить то, о чем думалось давно - трельяж. Трельяжа у нас никогда не было. То есть зеркала были, и немало, но когда что-нибудь шьешь, или примеряешь какую-то вещь, или делаешь сложную прическу из длинных волос, тогда без трельяжа обойтись нельзя. Шила я довольно много, и трельяж был необходим. Глядя в боковые зеркала сразу видно, что не так, где криво, где косо, а что – идеально. Правда, трельяж занимает довольно много места, и раньше, в старой квартире, его было бы некуда поставить, а здесь – в самый раз. Маша и Володя давно уже знали, как мне хотелось бы видеть у нас в доме трельяж, но где же его взять?
Заходила я все в тот же мебельный магазин, что возле моей работы, и однажды вижу: стоят два трельяжа, первый из которых – уже с табличкой «Продано», а второй – еще в продаже. Обрадовалась, выписала чек, вернулась на работу занять денег. Деньги нашлись, и вот – привезли покупку домой, для этого меня даже с работы отпустили. Володя и Машенька обрадовались моему приобретению. Правда, распаковывать трельяж тотчас же, в тот вечер, было некогда. Была пятница, и мы решили, что этим вопросом займемся завтра, в субботу. Машенька, которая не видела еще в нашем доме такого чуда под названием «трельяж», торопила события, все время ныла и просила:
- Мам, ну скорее снимите все эти бумаги, развяжите веревки! А что там за бумагами укутано?
- Зеркало. Даже не одно, а три.
- Как, целых три? А зачем?
- Потом увидишь. А пока – подожди, не до того.
- А можно я тебе буду помогать или сама все распакую?
- Да нет же, тебе одной - это не под силу. Займемся вместе. А пока близко не подходи, и с мячом рядом не играй.
…Нет, уговорить Машу было трудно, она так и крутилась рядом, подсматривала во все щелочки под картонную упаковку – что там, внутри? На другой день – в субботу – с утра у меня нашлись другие дела, а до трельяжа дело опять не дошло. Володя уехал на работу, а Маша, едва проснувшись, крутилась возле трельяжа. Она уже изнывала и канючила, подгоняя меня. Тут уже мне пришлось оставить все на кухне и обратиться к центру внимания. Вместе с Машенькой мы приступили к делу, стали распаковывать. Бумаг и картонок – целый ворох. Внутренние стеклянные полочки упакованы плотно и привернуты капитально в боковым внутренним стенкам, тут скоро не получится. Но зеркала мы «освободили» довольно быстро.
Маша была в восторге:
-Ура, как хорошо и высоко все видно!
В это время в кухне зазвонил телефон, и я ушла. Заодно проверила, что там варится на плите. Звонили по какому-то важному делу, и разговор затягивался. А из комнаты уже раздавались подозрительное сопение, шуршание и жалостные зазывания Маши. У нашего телефона тогда длинного шнура не было, радиотелефонов в природе еще не существовало, а прекратить разговор я почему-то не могла. Из комнаты же доносились все более подозрительные звуки.
Вскоре раздался сильный, хлопающий стук и тут же - Машин крик:
- Мама, трельяж упал!
Ну, при этом я все побросала и прибежала в комнату. Что вижу? - Развалены все стулья, раскиданы все картонки и веревки. Трельяж как стоял, так и стоит. На кровати, стоявшей перед трельяжем, сидит Маша в колготках и в футболке, с бумажным гофрированным бантом на голове – так она сама распаковала стеклянные полки. Ее платье вывернуто наизнанку и висит… на створке трельяжного зеркала, тапочки разбросаны в разные стороны. Я быстро оглядела все это и увидела, что ничего страшного не произошло.
- Маша, что все это значит? – спросила я строго.
- Ничего не значит, - отвечала она, снимая с головы бумажный бант.
- Ты что мне кричала?
- А что?
- Как что? Какой трельяж, куда упал? Признавайся! – я никак не могла успокоиться.
- Чего признаваться… Ты хотела бы, чтобы он и вправду упал?
- Да ты что, не понимаешь, как меня испугала!? А главное - зачем? – не могла понять я.
- А затем, что если трельяж упал, то ты сразу же испугалась и прибежала, а как меня тут оставить одну – так ничего? – Маша с осуждением смотрела в мою сторону.
- Как это одну? Да я рядом – через стенку. И что ты тут устроила, что кругом творится?
- А ничего особенного. Это было представление. Я тут перед зеркалом прыгала – проверяла, красиво ли у меня получается, а ты все не приходила.
- Ну и что, сама себе понравилась? А про меня подумала, про то, как меня расстроила? – не унималась я.
- Да я расстраивать тебя не хотела, и неужели ты не успела догадаться, что если бы и в самом деле упал этот твой трельяж, то грохоту было бы до первого этажа. Да и как вообще его можно уронить?
Вот об этом я и вправду не подумала: уронить такую вещь – надо силы иметь… Мы быстро довели дело до конца, убрали бумагу, расставили стулья, навели общий порядок.
Красиво стало!
Когда уже причесывали Машеньку перед новыми зеркалами, она поняла все их преимущества. Да и при шитье удобнее стало. Вскоре к этому трельяжу все привыкли, как будто он всегда здесь и стоял: к хорошему привыкаешь быстро!
Однако, потом, в самое не подходящее время, Маша мне часто припоминала всю эту историю. Говорила, что какой-то несчастный трельяж для меня вдруг оказался важнее всего остального. И уже гораздо позже, в каких-то других похожих, но несерьезных случаях, мы вместе часто шутили:
- А, это опять трельяж упал!
 Первая маленькая история произошла в июле 1979 года, когда мы с Машей отдыхали в Дальних Камышах, в окрестностях Феодосии. Здесь наша семья привыкла отдыхать уже несколько лет подряд. Сюда возили нас с братом в нашем детстве, сюда же мы потом приезжали с мужем, а теперь вот – с ребенком. Что и говорить, какой восторг вызывало у Машеньки все, что она впервые испытала и увидела в своей детской жизни! Она с интересом вглядывалась в морские дали, весело бегала по горячему песочку дикого пляжа, баловалась и плескалась в соленой воде. Все было в новинку, все было здорово. Почти с утра до вечера мы с ней проводили на море. Шел день за днем, впечатлений становилось все больше и больше.
Первая маленькая история произошла в июле 1979 года, когда мы с Машей отдыхали в Дальних Камышах, в окрестностях Феодосии. Здесь наша семья привыкла отдыхать уже несколько лет подряд. Сюда возили нас с братом в нашем детстве, сюда же мы потом приезжали с мужем, а теперь вот – с ребенком. Что и говорить, какой восторг вызывало у Машеньки все, что она впервые испытала и увидела в своей детской жизни! Она с интересом вглядывалась в морские дали, весело бегала по горячему песочку дикого пляжа, баловалась и плескалась в соленой воде. Все было в новинку, все было здорово. Почти с утра до вечера мы с ней проводили на море. Шел день за днем, впечатлений становилось все больше и больше.
Жаль, что наступит время, когда придется уехать!
С моей же стороны во всем этом присутствовал практический интерес: я все чаще стала задумываться о том, хватит ли оставшихся двух недель, чтобы научить Машу плавать. Было ей тогда ровно три года, и плавать она еще не умела. Раньше учить ее плаванию было особенно некогда, да, пожалуй, и негде в условиях средней полосы: короткое лето, мало тепла! А тут… Было заметно, что сама она очень хотела научиться плавать, но оторваться от дна никак не решалась. Барахталась у самого берега, болтала руками и ногами, делала вид, что плывет. Несколько раз я пыталась научить ее двигаться в воде правильно, а она все – никак: «включался» тормоз охраны от неожиданностей.
Время шло, и вот однажды, выбрав момент, я решилась на смелый поступок:
Держись за меня. Положи руки на мои плечи, я поплыву подальше и заодно тебя прокачу.
А мне страшно будет!
Нет, совсем не будет. Ведь я хорошо плаваю, а ты – легкий груз. Главное, помогай мне, делай движения ногами, как делала это, передвигаясь на руках по дну.
Маше было очень заманчиво, и она рискнула. Не то, что положила руки на мои плечи, а просто ухватилась, вроде как краб клешнями. Я отплыла довольно глубоко, но так, что мои ноги еще доставали дно, а ее – уже нет. Она привыкла к такому катанию, перестала бояться.
Я спросила:
Ну, как?
- Ой, здорово!
Чувствовалось, что она хорошо держится на воде, осталось чуть-чуть… Тут я быстро перевернулась на спину, выскользнула в сторону и оставила Машеньку, и она продолжила движение по инерции, без всякой опоры. Нужно было видеть ее глаза! И, конечно, нужно было видеть, как она, не ожидавшая от меня такого поведения, стала не беспорядочно бить руками и ногами по воде, теряя плавучесть (чего я так боялась!), а, преодолев панический страх и сумятицу переживаний, в течение нескольких секунд выправилась и почти правильно доплыла до берега.
Зато - что я от нее услышала, можно только представить!
Тем не менее, немного поиграв на песочке, она снова вошла в воду… Я сделала вид, что не наблюдаю за ней. Маша стала играть и возиться с ребятами у самого берега – но недолго. Потом зашла подальше в воду, и вижу: осторожно плывет вдоль берега, часто останавливаясь и отдыхая. Это – уже что-то!
Вскоре я научила ее плавать по правилам, насколько умела сама.
Мама, ты, конечно, жестоко со мной обошлась. Как ты могла? А если бы я утонула! – то и дела напоминала мне она.
Нет, ты бы ни за что не утонула, - уверяла ее я. - Ведь ты и сама была почти готова к плаванию, и я бы не дала тебе утонуть, не сомневайся. Теперь ты плаваешь, а это – большое дело. Воды на свете гораздо больше, чем земли. Каждый человек должен научиться плавать, а как же иначе – в море, в озере, на реке. Понимаешь?
Она, конечно, понимала. Плавать ей понравилось. В течение всего оставшегося времени она закрепляла свое новое знание. Для своего возраста научилась плавать хорошо. С тех пор она воды не боялась, а я получила некоторую уверенность в том, что она сможет уберечь себя на воде.
 Вторая маленькая история (с чужим кошельком) случилась в августе 1980 года, когда мы с Машенькой проводили замечательные дни в Геленджике. Как раз зимой, после операции аппендицита, к Маше привязался бронхит, и она долго еще болела. Врачи говорили, хорошо бы на море, но чтоб не очень жарко. Машеньке, конечно, очень хотелось на море. На этот раз удалось купить семейную путевку в Геленджик, в туристическую гостиницу «Солнечная». Сразу мы приехали с ней вдвоем, а Володя должен был подъехать позже. Устроились мы неплохо, кормили вполне прилично, фруктов полно, море рядом. Купаться и загорать – это можно было с утра и до вечера.
Вторая маленькая история (с чужим кошельком) случилась в августе 1980 года, когда мы с Машенькой проводили замечательные дни в Геленджике. Как раз зимой, после операции аппендицита, к Маше привязался бронхит, и она долго еще болела. Врачи говорили, хорошо бы на море, но чтоб не очень жарко. Машеньке, конечно, очень хотелось на море. На этот раз удалось купить семейную путевку в Геленджик, в туристическую гостиницу «Солнечная». Сразу мы приехали с ней вдвоем, а Володя должен был подъехать позже. Устроились мы неплохо, кормили вполне прилично, фруктов полно, море рядом. Купаться и загорать – это можно было с утра и до вечера.
Чего же больше?
Маша никогда не бывала в таких местах отдыха, где сразу вместе отдыхало такое количество людей. В Крыму, в окрестностях Феодосии, мы снимали небольшую комнату у хозяйки, и отдыхающих во дворе и на море было не так уж много. А в этом пансионате все было рассчитано на массовый заезд отдыхающих и обустроено иначе: и сам номер, где мы жили, был хорошим, с удобствами, и холлы многоэтажного здания были спланированы с размахом. Было несколько помещений для столовых, залы для игр, для концертов, да и вся организация отдыха была «подстроена» под туристов.
Маша поначалу всему удивлялась: все кругом необычно, непривычно, интересно. Так и ходила иногда, раскрыв рот от удивления. Ребенок есть ребенок! Детскому любопытству не было пределов: и туда хочется заглянуть, и здесь поинтересоваться новеньким. Особенно понравились прогулки по парковой зоне отдыха. Я ей показывала на небольшие аккуратные урны, расставленные по всей территории и ничуть не портившие общего вида. Эти урны были стилизованы под пингвинов, у которых широко раскрыт клюв. Говорила Маше:
- Если не будешь забывать закрывать рот вовремя, то станешь, как этот пингвин с раскрытым навсегда ртом.
- Прямо как урна?
- Даже если и не прямо таким, а похожим на него, так разве от этого нам легче будет? Следи за собой сама.
За собой следила она, конечно же, плохо, а удивляться можно было на каждом шагу. Еще и еще раз мы отмечали, как здесь здорово: живописная растительность, мягко очерченные горы, красивые парки. Веселые развлечения, устроенные специально для детей, вызывали массу удовольствий. А детей в Геленджик приехало, наверное, несколько тысяч, и все разного возраста. Вообще – народу было очень много, ведь самый сезон, да и место для отдыха славилось своей популярностью. С очередными заездами приезжих не убывало, и все – из разных географических поясов. Пляж с утра до вечера усыпан густо, и мы с Машенькой старались устроиться подальше от основной массы отдыхающих, но поближе к линии моря, чтобы никому не мешать, и чтобы купаться можно было рядом – легче за ребенком следить.
А ребенок из воды не вылезал.
По соседству обычно размещались одни и те же компании, и все понемногу привыкли друг к другу. Через некоторое время, однажды придя на пляж, мы обнаружили, что рядом с нашим привычным местом отдыха появились новые лица. Это оказалась молодая семья – юные супруги с маленькой девочкой, которой на вид было чуть больше годика. Сказали, что только что приехали из Воркуты, что там сейчас холодно, а тут тепло и прекрасно. Хотели бы устроиться где-то с ребенком, но пока еще им это не удалось. Поэтому пришли сюда передохнуть и искупаться. Ну, что же, будем соседями. Сначала Машенька попробовала играть с новенькой девочкой, но тут же ей это показалось неинтересным (слишком мала!), и она ушла к другим детям. Спустя час-полтора, родители попросили меня:
- Если вы пока никуда не уходите, не могли бы вы присмотреть за нашей Катенькой? Мы хотели бы отойти, купить чего-нибудь на обед. Мы скоро вернемся, не затрудним надолго.
- Хорошо… - не слишком охотно согласилась я. - Но справлюсь ли я с вашей Катенькой?
- Конечно! Мы – быстро…
И ушли, оставив мне свои вещи, то есть не только полотенца и ласты с маской, а еще и большую дорожную, плотно укомплектованную сумку. Само собой – на покрывале осталась сидеть Катенька, окруженная игрушками, и в руках у нее… переливался всеми цветами радуги огромный кошелек типа портмоне. То ли я его сразу не заметила, то ли девочка его случайно вытащила из каких-то других вещей – не помню. Что это именно кошелек - мне бросилось в глаза не сразу, но когда я это поняла, попробовала осторожно отнять его и дать в руки какую-нибудь другую игрушку. Не тут-то было! Катенька ни за что не хотела выпускать его из рук и, когда я попробовала еще раз переключить ее внимание на яркий мячик, завопила на весь пляж. Я обернулась, далеко ли ушла Маша – ведь за ней всегда нужно следить зорко! Но Маша пока еще не успела никаких дел натворить, а только направлялась в сторону наших соседей по столовой, которых узнала издалека.
Я громко окликнула ее, и она подошла:
- Ну что, и отойти нельзя?
- Можно, только помоги мне. Видишь, что творится? Как быть?
- Мама, мне непонятно: при чем тут я? Но как такую крошку можно доверять чужим людям? – Маша рассуждала почти по-взрослому. - И зачем у нее в руках деньги?
Я посмотрела – и, в самом деле, Катенька успешно раскрыла этот сказочно красивый кошелек и стала вытаскивать из него… (ничего себе!) зеленые купюры достоинством в пятьдесят рублей. Это были очень большие в то время деньги! Тут уже я не выдержала и отняла у нее все, что было в руках. Чего же я добилась? Если раньше на эту сцену смотрели только ближайшие отдыхающие, так теперь происходящим заинтересовалась почти половина пляжа. А Маша тем временем под шумок сбежала куда-то, чтоб подальше с моих глаз… Как только я отняла кошелек, Катенька сползла на самый край покрывала, разбросала по песку все свои игрушки, встала в полный рост и принялась так кричать и плакать, что покраснела, как маленькая тугая вишенка: вот-вот лопнет кожура, и мякоть брызнет спелым соком! Я по-настоящему испугалась, как бы ей плохо не стало, и отдала обратно это несчастный кошелек. Правда, у меня мелькнула мысль вынуть все деньги и отдать ей пустой кошелек. Но как же я могла так поступить? Ведь это – чужие деньги... И куда я их положила бы?
Получив желанную игрушку, Катенька тут же успокоилась, села на старое место, раскрыла кошелек… Уже молча вытащила первую купюру и бросила на песок. Недолго думала, посмотрела на меня и… вытащила следующую бумажку. Удивительно то, что купюр другого достоинства там не было – все по пятьдесят рублей! Казалось, что их – несметное количество. Как же это? И что же думали ее родители, когда оставили мне ребенка с такой суммой денег?! Права, права моя Машенька: разве можно незнакомому человеку настолько доверять? Кстати, а где мой-то ребенок? Вижу – вдалеке возится с ребятишками у самой воды, строят что-то из песка. Ну, ладно…
А весь народ прямо потешался над нами с Катенькой! Я уже не протестовала, а молча подбирала бумажки и подпихивала их под покрывало. Хорошо, хоть ветра не было! Только где же эти бесшабашные родители? Они, наверно, не знают и сами, что оставили в этом кошельке все свои сбережения… Или что же, в той Воркуте - деньги зарабатывают мешками? А вдруг прямо сейчас откуда-нибудь появится некто злоумышленник и отнимет эти деньги у нас с Катенькой? Или вообще, соблазнившись увиденным, какие-то бандиты схватят ребенка, а деньги – в придачу… А что? Запросто, тут такое бывает, наверное, запросто! Да, а если родители вообще не вернутся, куда мне обращаться – со всем этим?
Чего только в голову ни лезло, пока я дождалась их возвращения! Наконец, вижу: со стороны центрального входа по пляжу идут мои знакомые воркутяне, если я их правильно назвала, очень веселые и довольные. Что-то жуют на ходу, в руках несут пакеты и свертки.
Я вздохнула с облегчением…
Когда подошли, я все рассказала, да они и сами все увидели. Странно, но это их ничуть не удивило. Неспешно собрали все бумажки в кошелек, который Катенька отдала им с легкостью, и сказали:
- Да какие ж это деньги? Тут всего-то - на несколько дружеских обедов с коньяком и шашлыками!
Вот это да! И правда, я, скорее всего, мало чего в жизни видела и понимала до сего дня. Понимаю, однако, что на юг едут люди с разным достатком, с разным отношением к детям, к деньгам, ко всему другому, и теоретически такое вполне возможно, но, в самом деле… Воркутяне мои недолго позагорали, искупались, окунули пару раз свою Катеньку. Потом моментально собрались – как по сигналу - и уехали куда-то.
Как все у них быстро выходит!
Мы с Машенькой тоже успели позагорать, поплавать, обсудить только что случившееся. Потом собрались и пошли на обед в нашу столовую. Шли мимо пестрых пляжных топчанов, мимо колоритного южного базарчика, продолжая беседу.
Правда, по дороге невольно задержались возле тех почти натуральных пингвинов, что так и не успевали закрывать рот от постоянного удивления от всего того, что происходит на их глазах с живыми людьми…